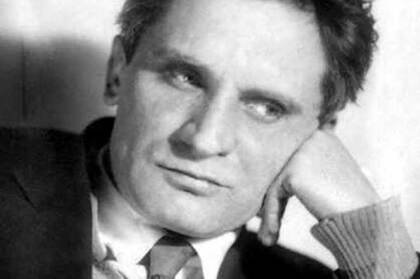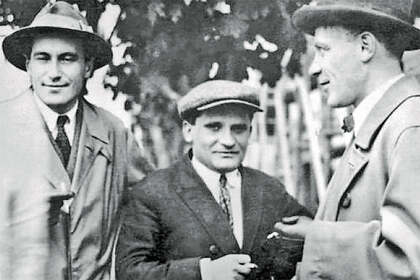Заговор чувств олеша мхт
В МХТ имени А. П. Чехова идут репетиции пьесы Юрия Олеши «Заговор чувств». Режиссер постановки — Сергей Женовач, премьера намечена на декабрь.
История отношений Юрия Олеши и Художественного театра похожа на айсберг. Наверху — «Три толстяка», единственный спектакль по произведению Олеши, который вышел во МХАТе при жизни писателя. Под водой — несколько лет переговоров и попыток сотрудничества, попыток довольно мучительных.
Во МХАТе мечтали о том, чтобы Олеша стал их автором. Немирович-Данченко в 1931 году отзывался о писателе так: «Из всех пишущих для сцены я чувствую драматурга настоящего пока только в трех — Булгаков, Афиногенов и Олеша». Завлит МХАТа Павел Марков переживал, что Художественный театр упустил пьесу «Заговор чувств» по роману Олеши «Зависть» — в 1929-м ее поставил Театр имени Вахтангова. Марков вообще был очарован блестящим даром Олеши: «Раз его увидев, уже нельзя было позабыть – он врезался в память своей дерзкой необычностью. Проницательные его наблюдения сразу облекались в необыкновенную форму. Среди нас бродил волшебник, охваченный какими- то осенившими его образами. Он был мудр и наивен».
Упустив «Заговор чувств», в 1930 году поставили инсценировку повести «Три толстяка» — МХАТу нужен был спектакль для детей, своего рода замена легендарной «Синей птице». Постановка получилась гротескной, фантасмагоричной и… грациозной, несмотря на то, что три толстяка высились на сцене как три неповоротливых горы.
Евгения Морес, игравшая нежную Суок, облаченную в костюм цирковой балерины, вспоминала: «Цирк – это мне всегда очень нравилось А какой в этой пьесе текст! “Розы плавали, как лебеди Этот зонтик, он шелестит, он звенит!” Очень ярко, декоративно, театрально».
В это же время МХАТ заказал Олеше пьесу к 15-летию революции — о новой, советской жизни. И тут начались мучения. Олеша писал разные варианты пьесы — она называлась то «Модест Занд», то «Смерть Занда», то «Нищий», то «Нищета философии». Прочитал во МХАТе, попросили доработать — он переписал, сочиняя, по сути, новую пьесу. И в какой-то момент прислал во МХАТ письмо с такими словами: «Не считайте меня обманщиком, рвачем и мерзавцем. Я пьесу пишу. Но чем же я виноват, что эта работа хрупкая, которая ломается каждую минуту? Я делаю серьезную работу, тема чрезвычайно серьезная для меня – кровавая. (…) Я не могу спешить, я работаю долго! Ну, поймите меня и простите!»
На самом деле в первой половине 30-х Олеша просто замолчал. Фазиль Искандер считал это проявлением стойкости: «Молчание порою требует от писателя не меньшего мужества и таланта. Просто писатель чувствует, что не имеет права говорить ниже того уровня, на котором говорил и писал раньше. А сказать лучше, больше — он чувствует, что пока не может. И предпочитает замолчать совсем».
В 1961 году, уже после смерти Юрия Олеши, на сцену Художественного театра вернулась его сказка «Три толстяка». Спектакль поставил Владимир Богомолов, канатоходец Тибул в исполнении Игоря Васильева поражал в нем своей ловкостью и атлетизмом, редким для драматической сцены. А про Суок Нины Гуляевой писали: «Это была не роль. Это было настоящее чудо. Девочка Суок была совершенно живым, настоящим ребенком… Но когда девочка Суок на ваших глазах превращалась в куклу наследника Тутти, чтобы обмануть толстяков, дети в зале спрашивали родителей: “Как сделана эта говорящая и движущаяся кукла?”» Зрители любили этот спектакль – он прошел 761 раз.
Источник
|Заговор чувств|
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта» Юрий Олеша: «В каждом человеке есть дурное и есть хорошее. Я не поверю, что возможен человек, который не мог бы понять, что такое быть тщеславным, или трусом, или эгоистом. Каждый человек может почувствовать в себе внезапное появление какого угодно двойника». Премия «Хрустальная Турандот» в номинации «За лучшую режиссуру» (2021 г.). Источник Спектакль «Заговор чувств» — отзывыВсе дни В выходные
ОписаниеСценическая редакция театра по одноимённой пьесе и роману «Зависть» Организатор: ФГБУ культуры Московский Художественный Академический театр им. Чехова Однозначно понравились только бесплатные бутерброды с колбасой, все остальное очень спорно и странно. Спектакль показался нам с женой очень устаревшим и не современным, напомнило постаногвки в советских театрах, когда играть актерам нечего, но читали громко, надрывно и с выражением. Декорация очень неудобная, мы сидели в бельэтаже и она была на уровне наших глаз, монотонно открывалась в разных местах, было скучно. Ушли после того как на сцену выбежал Аванагард Леонтьев с запеленутой как младенец колбасой, решили что хватит с нас бреда. Дома почитали критику и были удивлены, что некоторые отзываются о спектакле как для образованных и умных зрителей, не для средних умов, при этом почти вся статья пересказ спектакля, история пьесы и времени, биография автора, а в конце неожиданный вывод. Возможно это были заказанные театром статьи, мы не стали углубляться. Рекомендовать бы спектакль не стал, несмотря на хорошую игру Михаила Пореченкова. К нашему огорчению, МХТ после смерти Олега Павловича Табакова все хуже и хуже, не пропускали раньше премьеры, а сейчас и сходить не на что. После этой премьеры вряд ли на что-то придем без отзывов хороших знакомых. Интересно, а режиссер с декоратором спектакль свой видели, или создавали его не глядя с балкона??можно же было о зрителе подумать, чтобы он не сидел все время с задранной головой, а потом еще скрючившись направо??Необычная декорация с разноцветными квадратами оказалась очень неудобной и скучной.Ждала, что за поднимающимися вставками окажется что-то интересное, а там просто деревянные лестницы, близко к сцене и на приличной высоте.Если рискнете сходить, берите бельэтаж или балкон, к партеру должны прилагаться услуги остеопата. Источник Бой без тени«Заговор чувств» в МХТ им. А. П. ЧеховаВ МХТ им. А. П. Чехова состоялась премьера спектакля «Заговор чувств» в постановке худрука театра Сергея Женовача, испытывающего постоянную режиссерскую привязанность к литературе начальной советской эпохи. В числе поставленных им за последние годы авторов есть Николай Эрдман, Михаил Булгаков, Даниил Хармс. Теперь к ним добавились Юрий Олеша и композиция по его пьесе «Заговор чувств» и роману «Зависть», из которого пьеса и родилась. Рассказывает Ольга Федянина. Романтик Иван (Артем Волобуев, справа) пытается убедить прагматика Андрея (Михаил Пореченков) в том, что простые человеческие чувства и слабости важнее великих свершений Фото: Александр Иванишин / МХТ им. А. П. Чехова Романтик Иван (Артем Волобуев, справа) пытается убедить прагматика Андрея (Михаил Пореченков) в том, что простые человеческие чувства и слабости важнее великих свершений Фото: Александр Иванишин / МХТ им. А. П. Чехова Эрдман, Булгаков, Хармс, Олеша — различий у них не меньше, чем сходств, но есть нечто общее, повторяющееся. Персонажи их пьес, рассказов, романов выпадают из своего времени, как пресловутые хармсовские старухи из окна. Герой, глядящий в спину уходящей вперед эпохе с недоумением, иронией, ужасом,— центральный персонаж спектаклей Женовача, поставленных по текстам этих авторов. То, что «вперед» совсем не обязательно означает «к лучшему», понятно без лишних слов. Портал сцены перегорожен стеной, составленной из подвижных прямоугольных панелей разных цвета и формата, гаммой и пропорциями недвусмысленно отсылающей к авангарду начала ХХ века, к Родченко, к супрематистам, к конструктивизму (художник — Александр Боровский). Поднимаясь и опускаясь, панели открывают окна-площадки, в которых разыгрываются отдельные сцены спектакля. Главный герой пьесы и романа Олеши Николай Кавалеров (Алексей Краснёнков) время от времени пытается как-то «перехитрить» жесткие углы и ребра этой очень элегантной конструкции, сгибается в три погибели, подползает, пролезает в закрывающиеся окна, изворачивается. Кавалеров — безнадежный герой эпохи, ее «лузер». Он молод, но ему претит новое время, маршевая бодрость его мелодий и ритмов. Кавалеров очень боится, что в этом новом времени востребованы будут только люди без индивидуальности, без личных амбиций. Его разрывает на части между двумя другими протагонистами, двумя братьями. Андрей Бабичев (Михаил Пореченков) — символ и герой этого нового времени, начальник всесоюзного пищевого треста, впадающий в экстаз при мысли о новом сорте колбасы, громогласно требующий, чтобы мир отказался от частных кухонь ради общественного питания и обрел таким образом свободу. Иван Бабичев (Артем Волобуев) — антигерой и вкрадчивый провокатор, борец за права герани, канареек и мещанских чувств. Между всеми тремя порхает очаровательная девушка Валя (Софья Райзман), в которой ритм бодрого марша и капризная линия югендстиля еще прекрасно уживаются между собой. Время от времени споры главных героев получают подкрепление в виде маленькой живописной стаи обывателей, вьющихся вокруг Ивана Бабичева, но вообще-то все действие здесь — это диалог, полемика на троих. Девушка Валя в этой полемике не участник, а приз победителю, и в финале она останется за Андреем Бабичевым, «новым человеком». Полемика, скажем сразу, очень увлекательна и сыграна мастерски. Если в персонажах что-то и смущает, то не их многословие, а то место в истории, которое за ними — сознательно или нет — резервирует режиссер. Фото: Александр Иванишин / МХТ им. А. П. Чехова Источник колбаса второй свежести: «Заговор чувств» Ю.Олеши в МХТ, реж. Сергей ЖеновачТрудно представить сегодня, какой сенсацией, какой бомбой явилась «Зависть» Юрия Олеши на всем русскоязычном пространстве, в 1920-30-е еще не сузившемся до «одной шестой части суши», а наоборот, за счет массовой послереволюционной эмиграции территориально охватившем почти весь мир: «Этот, пожалуй, не станет «нашим Олешей» — писала Нина Берберова про Владимира Набокова (!) после выхода «Защиты Лужина» (!!) — таков был статус Юрия Олеши благодаря «Зависти»! А если учесть общий русскоязычный литературный фон эпохи — который тоже сегодня, даже если им заниматься более-менее прицельно (а я когда-то занимался. ) не вмещается в современное сознание ни объемом, ни разнообразием, значительность единственного (ну не считая «Трех толстяков») романа Олеши вызывает оторопь. Пьеса «Заговор чувств» на основе «Зависти» написана спустя два года после выхода журнальной публикации романа в «Красной нови» — в 1929-м, в «год великого перелома», в год высылки Троцкого. то есть проблематика, на которой выстраивается целиком философия и романа, и пьесы (все-таки пьесы, а не просто инсценировки), в значительной степени, в фундаментальной ее части устарела уже к моменту премьеры спектакля Алексея Попова и Николая Акимова в Театре им. Вахтангова. Спустя почти век уяснить не то что в чем проблема, но хотя бы в чем источник конфликта пьесы, о чем вообще толкуют персонажи, бесконечно повторяя «новый век», «новый человек», «новая жизнь» (тот «новый век», та «новая жизнь», во-первых, и не наступили вовсе, точнее, оказались совсем не такими и не столь уж «новыми», как виделось в середине 1920-х, а во-вторых, так или иначе для нас остались в прошлом веке, в прошлой жизни!), вне историко-политического контекста, современного появлению романа и пьесы, практически невозможно. По большому счету невозможно, даже внимательно, с карандашом в руках читая роман, сюжет которого по нынешним временам чересчур экстравагантен и может показаться запутанным (а для своего времени был вполне распространенным, даже типичным), воспринимать его как связное повествование — «Зависть» способна увлечь, ну если способна, не фабулой и не как цельное произведение, но отдельными фразами, вычурными метафорами, полифонией точек зрения (и мировоззренческих, и опять же в плане чисто повествовательной техники), за эффектную словесную конструкцию цепляешься, на ней останавливаешься, к ней возвращаешься. забывая, в чем там суть дела у героев, да и важно ли теперь, в чем там сто лет назад была суть? И подавно невозможно при всем желании вникнуть в развитие событий «Заговора чувств» по ходу спектакля МХТ — в лучшем случае он неизбежно (это даже не просчет режиссера, по крайней мере просчет не на уровне сценического решения) воспринимается как бессвязный набор абсурдистских скетчей. Чтоб хотя бы какую-то осмысленность происходящему на сцене придать, необходимо было бы увязать сюжет и текст пьесы с реалиями сегодняшнего дня и, что называется, кпарадигмой» современного сознания; ну либо погружаться в исторический контекст и рассматривать сочинение Олеши как некий музейный артефакт, с большой дистанции, из-под стекла витрины, а не как повод для живого, претендующего на актуальность (и стилистическую, и содержательную) театра. Еще одним вариантом обоснования постановки могли бы стать соображения (лично мне они претят, но имеют место быть) «просветительские», «культуртрегерские» — мол, да, вещь несовременная, архаичная, но для своей эпохи знаковая, давайте откроем ее широкой, массовой публике. Однако в отличие от большинства ровесников Юрия Олеши, сгинувших и забытых, его-то как раз и помнят, и, что совсем уж редкость, читают, а порой и ставят. Несколько лет назад Ольга Субботина в ЦДР (еще том старом. ) выпустила свой «Заговор чувств» с Владимиром Скворцовым в роли Андрея Бабичева — пытаясь как раз спроецировать если не бытовые реалии, то идеологические дискуссии 1920-х на обстановку начала 21го века, опосредованно представляя адептов «старой жизни», Николая Кавалерова и Ивана Бабичева, оказавшимися не у дел последышами-интеллигентами позднесоветского «розлива», а энтузиаста «нового мира» Андрея Бабичева чем-то вроде олигарха-«колбасника» (благо и прототипы конкретные тогда наблюдались): Сергей Женовач идет другим путем. ну то есть я, признаюсь, не уловил направление пути, которым он двигался. Определенно не в сторону поиска точек соприкосновения эпох — скорее в обратном, но и туда он, похоже, не дошел, ограничившись декоративной концепцией, предложенной сценографом Александром Боровским, постоянным его соавтором. Отсылающую к архитектуре конструктивизма многоэтажную декорацию из лестниц и площадок от зала отгораживает, свободное пространство оставляя лишь у самой рампы, стилизованная под супрематистские абстракции стена из разноцветных и разнокалиберных панелей, туда-сюда ходящих вертикально, будто элементы гигантского, тотального механизма, порой напоминающего мясорубку, а может и гильотину. В этой конструктивистско-супрематистской «коммуналке» (косвенно напоминающей квартиру, где обитают Подсекальников и его соседи по «Самоубийце»), буквально оторванной от земной поверхности, не чуя под собою земли, обитают все персонажи — и основные, и второстепенные: пространство тесное, сдавленное, густонаселенное, хотя про некоторых эпизодических лиц ничего определенного сказать нельзя, что они здесь делают и зачем нужны в спектакле, остается непроясненным, но в любом случае, несомненно, и по костюмам, и по мизансценам, и особенно по интонациям бодро-крикливым, и даже по мимике лиц это люди не нашего периода (простигосподи. ), а типажи, застрявшие в своих родных советских 1920-х годах. Интерес, который проявляет и последовательно реализует в творчестве Сергей Женовач к советской драматургии и прозе, а следовательно, и к советской истории, к советской жизни 1920-30-х, мне еще и в силу личных моих обстоятельств импонирует чрезвычайно. Последние годы Женовач как режиссер, собственно, не выходил считай (намеченная на май прошлого года премьера по Виктору Некрасову отодвинулась по понятным причинам) за рамки этого узкого хронологического промежутка, необычайно богатого и на шедевры, и на сомнительные, но порой не менее интересные и удивительные литературные раритеты; да и как худрук МХТ он следует в репертуарной политике театра той же колеей, другое дело, что по факту спектакли оказываются или не слишком удачными, как «Сахарный немец» Уланбека Баялиева по Сергею Клычкову — — либо такими, что все мое филологическое естество протестует, как в случае с «Ювенильным морем» Натальи Назаровой якобы по Андрею Платонову (номинально, а в действительности это неприемлемый для меня анти-Платонов) — Что касается непосредственно постановок Сергея Женовача, на мой взгляд, и его отношение к эпохе, и его увлечение литературой этих лет очень полно выразилось в условной (не заявлявшейся в качестве таковой официально, но по-моему отчетливо прослеживающейся) «трилогии», состоящей из «Самоубийцы» Эрдмана — — «Записок покойника» Булгакова — — и «Мастера и Маргариты» опять же, соответственно, Булгакова — — своеобразным «послесловием» к которой явилась «Старуха» по Хармсу — — и тему, в общем, закрыла. Уже до «Старухи» выпущенный в МХТ булгаковский «Бег» вызывал (говорю за себя) некоторое недоумение, но «Бег» по крайней мере складная, «понятная», да и известная (благодаря старому фильму, а также по другим немалочисленным театральным версиям) история — — чего про «Зависть»/»Заговор чувств» не скажешь. В нынешнем спектакле Женовач опирается сразу и на пьесу, и на роман (характерология — в частности, отсутствие одного из знаковых романных персонажей на сцене — и общий тон, гиперболизация, «абсурдизация», парадоксальное соединение трагизма и сарказма — и некоторые предметные детали, например, подушка в руках Ивана Бабичева как ироническо-символический атрибут — в спектакле от пьесы; но отдельные прозаические пассажи — из романа); однако достоинства, «красОты» писательского слога тонут в ритме действия, в скороговорках на повышенных тонах; а действие, в свою очередь, без того по сегодняшним понятиям невнятное, на каждом шагу спотыкается о пространные монологи, содержание которых вне исторического контекста неизбежно ускользает. Моя старая добрая знакомая, большая любительница искусства Коломбина Соломоновна, в антракте успела предположить, что «на малой сцене это может еще бы смотрелось», но я не думаю, что тут вопрос размеров площадки; зато готов допустить, что «на расстоянии шепота» — метафора, которой Юрий Олеша особенно гордился, выделяя ее в заметках, составивших книгу «Ни дня без строчки» — — многие оттенки смыслов, вложенные писателем в сложносочиненные словесные построения «Зависти», и правда «громче», «отчетливее» прозвучали бы, не даром же и герой «Самоубийцы», несчастный Подсекальников в исполнении Вячеслава Евлантьева, у Женовача мечтает не столько о ливерной колбасе, сколько о «праве на шепот». Тем не менее ход, прием режиссеров выбран иной, противоположный: вместо шепота преобладает надрывный, иногда до истерики, крик, что касается не только скетчевых эпизодов, но и «лирических», монологических, ключевых для философии автора, постановщиком если не переосмысленной, то переакцентированной. Спектакль открывается монологом Николая Кавалерова (Алексей Красненков) о том, что не довелось ему родиться в Европе, где есть условия для раскрытия индивидуальности; а завершается просьбой Ивана Бабичева (Артем Волобуев) «выколи мне глаза, чтоб я был слепым, я ничего не хочу видеть», и в в такой «эскапистской» оптике самоослепления, бега от реальности и от жизни, предлагается рассматривать остальное содержание, и весь сюжет, и характер главного (ну как минимум самого колоритного) героя, Андрея Бабичева (Михаил Пореченков). Иван Бабичев и Николай Кавалеров при подобном раскладе задают угол зрения на все происходящее, и в целом на историю (как историю, рассказанную в пьесе, так и политическую историю), при всей своей «фриковатости» возвышаясь эстетически и, скажем, «морально», над остальными персонажами, что адекватно первоисточнику. Однако Юрий Олеша, «оправдывая стилистически» (как отмечали первые критики «Зависти»), «исторически» констатировал «обреченность» этих «последних романтиков» из «прошлого века»; не подозревая, что поспешил, а попросту ошибся вместе с большинством современников и соотечественников принимая мечту о будущем за наступившую в настоящем реальность. «Тебя расстрелять забыли!» — бросает Андрей Бабичев брату своему Ивану, довольно, между прочим, беззлобно, и уж точно без настойчивости, ну забыли и забыли, живи себе пока; но в скором времени — которое Олеша, не в пример многим, худо-бедно перетерпел, уцелел — не забудут расстрелять Андрея Бабичева: кому, в самом деле, опасен «король пошляков» Иван? А вот начальник треста пищевой промышленности Андрей — первый кандидат в мясорубку 1930-х, к тому ж еще, не в пример спивающемуся бедолаге Кавалерову, он «жил в Париже», о чем упоминается вскользь, для рубежа последовавшего за 1920-ми советского десятилетия это уже готовый обвинительный акт по статье «шпионаж»! Сергей Женовач в теме — и он, конечно, не может не понимать, в какой степени триумф Андрея Бабичева и его «нового мира», где торжествуют «план» и «машина» — «пиррова победа» не только для всех вокруг, но и для самого начальника треста персонально. И все же, следуя за автором с излишней осторожностью, строит сегодня конфликт спектакля на тех же основаниях, что и Юрий Олеша в 1920-е: Андрей Бабичев — воплощение безоговорочного оптимизма, энтузиазма, ходячая аллегория «коллектива» и «плана»; а Иван Бабичев и Николай Кавалеров — «романтичные» маргиналы, внешне жалкие, но задним числом обретающие статус трагических фигур, Кавалеров-Красненков так просто напрямую (хотя может и бессознательно для режиссера) почти отождествляется с лирическим героем «Старухи», безымянным «господином свободных мыслей», а заодно и булгаковскими Максудовым, Мастером, и отчасти все с тем же несчастным эрдмановским Подсекальниковым. Но как же тогда соотнести происходящее на сцене с тем, что творится за стенами театра, как воспринимать всерьез противостояние поверженного «девятнадцатого века» торжествующему «веку двадцатому», когда на дворе уже (или кто-то не заметил?) уж 21-й год как 21-й век. Что не поделили эти чудаки, эти призраки из прошлого, почему брат Андрей полушутя-полусерьезно говорит брату Ивану «тебя расстрелять забыли», а брат Иван к брату Андрею «в ответ» подсылает Николая Кавалерова с ножом?! Какой «заговор чувств» против «века машин», это вообще о чем?! Все это «глупые цветы», и «весь портвейн превратился в воду»! Какой-то и впрямь «бой бабочек», о котором упоминается походя в тексте — вот тоже, кстати, кто-нибудь улавливает иронию Олеши по отношению к популярнейшей некогда пьесе Зудермана «из прошлого века», если сейчас что Зудерман, что Олеша, все едино, все прошлый-позапрошлый век?! Про «массовку» я уже молчу, водевильные разборки с супружескими изменами проскакивают, не привлекая внимание ни к микро-сюжетам, ни к их участникам; вдова Прокопович, у которой «спасаются» опустившиеся «заговорщики», как ни хороша сама по себе Юлия Чебакова, будто заскочила в Олешу из Кена Людвига; «дивертисмент» с «желаниями», которые во втором акте «обманно» собирает у доверчивых мещан Иван Бабичев, не имея возможности и не намереваясь их исполнять, снова задает невольную перекличку с «Самоубийцей» (написанным, кстати, аккурат между публикацией «Зависти» и премьерой «Заговора чувств», в 1928), и набор харАктерных типажей словно прискакал оттуда же (актеры все достойные, начиная с Виктора Кулюхина в образе пенсионера, мечтающего о домике, садике, веранде, внучке и чтоб играла серенаду Дриго, и далее Армен Арушунян, Софья Разйман, Алексей Варущенко). Ну а Михаил Пореченков по обыкновению самоупоенно «работает на публику» — его выход сопровождается набором гимнастических упражнений и, надо признать, имеет успех у зрителя. который своей дешевкой, на мой личный вкус, противнее и постыднее всякого провала. Что гораздо хуже, Пореченков — известный, популярный, кем-то, наверное, и любимый артист. и талантливый по-своему, несомненно — так много, да попросту все внимание отвлекает на себя, что за его эскападами теряются остатки связности и осмысленности пьесы. Идеология, которую несет на себе образ Андрея Бабичева — а она, вообще-то, определяющая содержательный строй и пьесы, и романа — полностью ушла в «прикол»: план, энтузиазм, колбаса. Для чего-то рядом крутится суетливый Шапиро (комикующий Авангард Леонтьев), старательно вторит и записывает за Андреем Бабичевым его торжественную, «программную» речь немецкий гость Харман (Алексей Агапов), что-то происходит вокруг Валечки, «приемной дочери» Ивана, влюбленной в Андрея, что дает одному брату дополнительный повод для ревности, ненависти к другому и мести (в спектакле Ольги Субботиной, насколько помнится, Валя ассоциировалась с «куколкой»-двойником Суок из «Трех толстяков» и подразумевалась автобиографическая подоплека этой сюжетной линии. тогда как в устах героини Софьи Райзман реплика «я лучше, чем колбаса. » вместо нежной иронии отдает дебилизмом), но любовная, мелодраматическая интрига теряется рядом с «упражнениями» Пореченкова, каскадом трюков и трансформаций сценографии, а разговоры про «новые чувства» взамен «старых», отживших вместе со «старым веком», оборачиваются никчемной белибердой — пользуясь расхожей формулировкой автора той же эпохи — «колбасой второй свежести». Апофеозом шоу становится парадный вынос колбасного «батона» в «нарядной» кружевной бумажной обертке, будто младенца, «мессии», пришедшего в «новый мир» — и вот уже этот батон летит с трибуны на пол, брошенный в отчаянии «заговорщиком». Надо ли понимать ли это как прощальный жест «старого» по отношению к «новому», или пророчество для «нового», или всего лишь как очередное «упражнение». Смешно ли это хотя бы. Где здесь «старое», где «новое», где «человек», где «машина», где «чувства», где «план», наконец, что есть «колбаса!». Из чего с таким остервенением Иван Бабичев, «человек с подушкой», отстаивает право «спать каждому на своей подушке» — боится, что у него подушку украдут?! Между прочим, лейтмотивами в музыкальном оформлении спектакля проходят советские песенные марши — при том что «Марш авиаторов» («Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. «) возник в самом начале 1920-х, а «Марш энтузиастов» («В буднях великих строек. ) это уже 1936-й год, кинофильм «Светлый путь», а «Москва майская» («Утро красит нежным светом. «) и вовсе 1937-й, но коль скоро тут они подаются в общем ключе и с единой задачей, 1920-е и 1930-е режиссером не противопоставляются, а наоборот, соединяются в некое цельное «новое время», сатирически изобличать которое, мягко говоря, поздновато, а более глубокой, вдумчивой попытки с ним разобраться в спектакле не обнаруживается; а если все же разбираться — неизбежно придешь от ложного ощущения единства к осознанию контраста 1920-х и 1930-х (в 1930-е уже невозможен был бы «Заговор чувств», и гениальный фильм Абрама Роома «Строгий юноша» по сценарию Юрия Олеши, развивающий те же мотивы, в 1936 году сразу попал под запрет), в свете чего образ энтузиаста «нового времени», радетеля «плана», начальника треста Андрея Бабичева высветится как намного более противоречивый и трагедийный, чем все вместе взятые кавалеровы; здесь же он подан коверным клоуном, пусть Андрей Бабичев и называет Кавалерова «шутом», шут он сам, таким его Пореченков играет. Кстати, пресловутому, так «на ура» принимаемому «сольному номеру» Пореченкова с утренней гимнастикой, сопровождением служит не очередной «марш энтузиастов», но «Песня о встречном» Шостаковича, впервые прозвучавшая в фильме Юткевича и Эрмлера «Встречный» 1933 года, случайно или нет в чем-то сходным по фабуле и по характерологии с «Заговором чувств» — — а я про историю этой песни вспоминал днями ранее по случаю премьеры в Большом театре на Камерной сцене оперетты «Москва, Черемушки», где Шостакович использовал через несколько десятилетий некоторые свои давнишние, бэушные мелодические темы, и эту в частности; но подкладывая на готовые мотивчики другие слова; так вот автора «Нас утро встречает прохладой. » Бориса Корнилова в 1938-м расстреляли; и вместо его преисполненных оптимизма и энтузиазма строчек Владимир Масс, отбывший в ссылках десять лет, написал, укладываясь в готовый размер, куплеты «Я в школу когда-то ходила. «: И Олешу, и Шостаковича история чему-то да научила, послужив суровой школой. Стоило бы, наверное, обращаясь к их творчеству в наш период (простигосподи), и нам их уроки держать на памяти, иметь в виду. Источник |