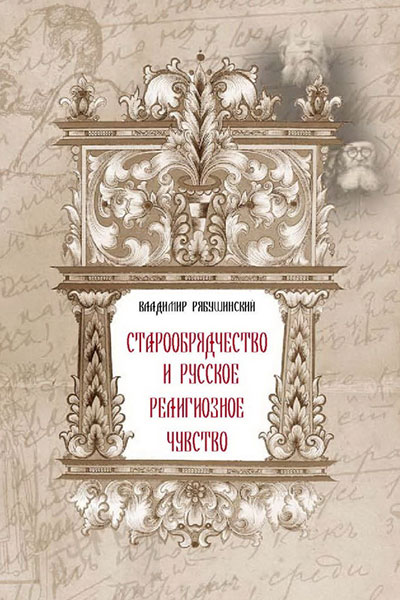Рябушинский старообрядчество русское религиозное чувство
КНИГА: Рябушинский В.П. «Старообрядчество и русское религиозное чувство.», Москва; Иерусалим: Мосты, 1994
АННОТАЦИЯ: О самых ранних, и о самых последних годах жизни Владимира Павловича Рябушинского, представителя знаменитой старообрядческой династии промышленников, читатель этой книги узнает из вошедших сюда мемуаров, из статей, в числе прочего повествующих о деятельности парижского общества «Икона», и из комментариев к ним.
В.П. Рябушинский — представитель знаменитой династии отечественных промышленников и один из крупнейших специалистов по истории русской иконописи. В издание включены фундаментальное исследование «Старообрядчество и русское религиозное чувство», цикл «Русский хозяин», а также свод научных и публицистических статей 1920-1950-х годов, посвященных истории и общекультурному значению русской иконописи.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. М. Гринберг, В. Нехотин 5
СТАРООБРЯДЧЕСТВО И РУССКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ЧУВСТВО
Введение 9
Гл. 1. Корни старообрядческой психологии 22
Гл. 2. Переходное время между великим расколом и реформами
Петра. Патриарх Иоаким . 29
Гл. 3. Религиозное чувство в русском барине 18-го века 41
Гл. 4. Религиозное чувство в русском мужике 18-го века 52
Гл. 5. Барин и интеллигент в 19-м и 20-м веках 64
Гл. 6. Идеология старообрядчества от конца 18 века по настоящее
время 81
Заключение 101
Примечания 104
РУССКИЙ ХОЗЯИН
Судьбы русского хозяина 123
Купечество московское 133
СТАТЬИ ОБ ИКОНЕ
Религиозный смысл русской иконы 169
Что такое икона? 174
К пятисотлетию падения Константинополя 183
Литургическое значение священного искусства 186
Кризис религиозного искусства на Западе и роль иконы при этом 191
Значение русской эмиграции в идейной жизни современного мира 203
Русская икона в иностранной литературе 207
Комментарии 217
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. М. Гринберг, В. Нехотин 5
СТАРООБРЯДЧЕСТВО И РУССКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ЧУВСТВО
Введение 9
Гл. 1. Корни старообрядческой психологии 22
Гл. 2. Переходное время между великим расколом и реформами
Петра. Патриарх Иоаким . 29
Гл. 3. Религиозное чувство в русском барине 18-го века 41
Гл. 4. Религиозное чувство в русском мужике 18-го века 52
Гл. 5. Барин и интеллигент в 19-м и 20-м веках 64
Гл. 6. Идеология старообрядчества от конца 18 века по настоящее
время 81
Заключение 101
Примечания 104
РУССКИЙ ХОЗЯИН
Судьбы русского хозяина 123
Купечество московское 133
Источник
Рябушинский старообрядчество русское религиозное чувство
История старообрядческой литературы насчитывает практически столько же лет, как и история раскола: её первые памятники – сочинения пламенного протопопа Аввакума, челобитные соловецких старцев и т.д. – были написаны ещё в XVII веке. Среди этой литературы попадаются подлинные жемчужины, достойные занять почётное место в истории российской словесности. Однако, в силу образования и воспитания, мало кто из писателей-староверов мог изложить свои религиозные взгляды при помощи языка и образов, близких и понятных европейски образованному русскому читателю. Поэтому сборник Владимира Рябушинского (1873–1955) – потомка уважаемой купеческой семьи, ревностного старообрядца, сохранившего свою веру, несмотря на учёбу в Гейдельбергском университете и почти тридцатилетнюю жизнь в Европе, – довольна редкая возможность взглянуть на мир древлеправославия глазами «инсайдера».
В очерке «Старообрядчество и русское религиозное чувство» (давшем название сборнику) читатель найдёт немало интересных фактов, касающихся собственно истории старообрядчества: полемики начала XVIII столетия между староверами и нижегородским миссионером Питиримом, взаимоотношений поповцев и беспоповцев и т.д. Однако задача этого очерка гораздо шире – это взгляд на историю послепетровской религиозности, или даже культуру глазами человека, хорошо с ней знакомого, прекрасно владеющего её языком и «кодами», однако смотрящего на неё извне, с позиций древнерусского благочестия. Причём, поскольку почти сразу за никоновским расколом последовал ещё один, петровский, разделивших русский народ на бритых «бар» в немецком платье и бородатых «мужиков» в армяках, Рябушинский отдельно рассматривает умонастроения элиты (от «птенцов гнезда Петрова» до нигилистов), а отдельно – «необразованного простонародья».
Кроме того, в сборник вошёл очерк о московском купечестве (о нём опять же писали много и многие – от Гиляровского и Дорошевича до Горького, однако Рябушинский, в отличие от них, знал московское купечество изнутри), а также многочисленные статьи о русской иконе (с 1925 года и до самой смерти Рябушинский возглавлял парижское общество «Икона», занимавшееся изучением и популяризацией русской религиозной живописи).
Завершают книгу несколько писем брату Павлу, отправленные Владимиром Рябушинским с фронта, где он служил сначала в артиллерии, а после ранения в 1915 году – в разведке.
О чём бы ни писал Рябушинский: о старообрядчестве, иконописи или московском купечестве, – он, безусловно, субъективен и лицеприятен. Однако если пишешь о том, что близко и дорого, иначе, наверное, и не бывает.
Источник
Рябушинский В. П. «Старообрядчество и русское религиозное чувство»
Исследователи истории старообрядчества В.В. Нехотин, В.Н. Анисимова и М.Л. Гринберг подготовили к изданию расширенный сборник научных, публицистических и эпистолярных произведений известного русского предпринимателя, старообрядца В. П. Рябушинского. Предыдущий сборник увидел свет в 1994 году. Новая книга трудов Рябушинского была издана весной 2009 года при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» (Москва. Мосты культуры. 2009).
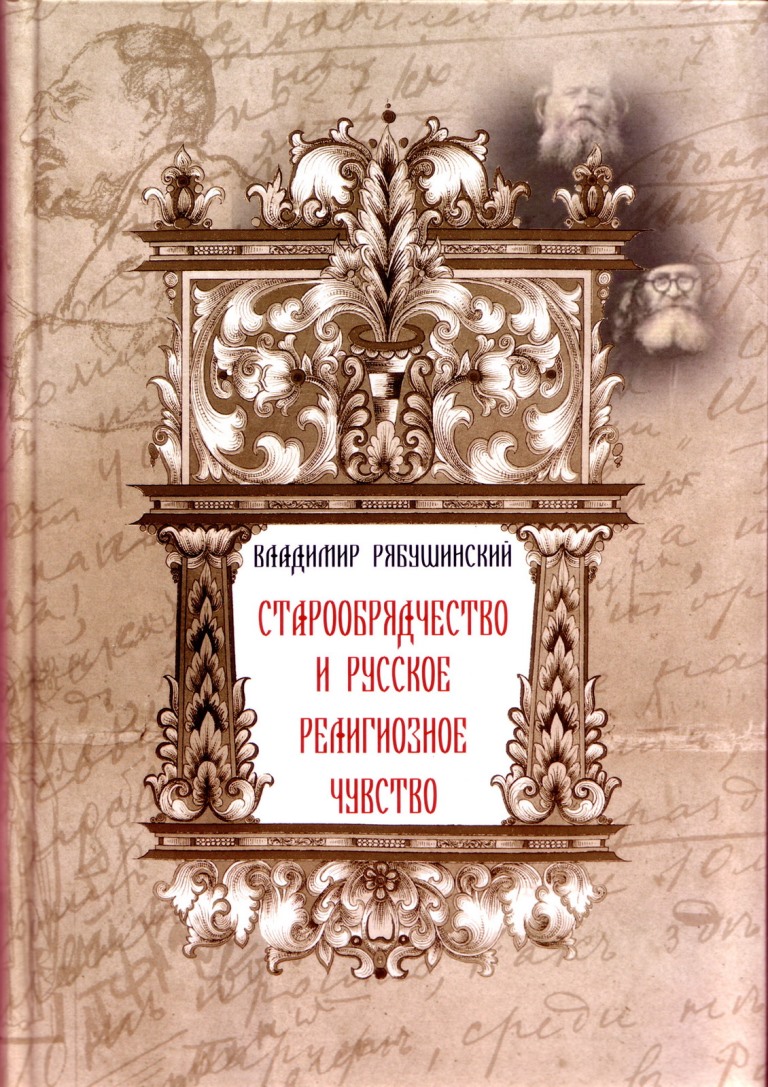
Книга открывается большой биографической статьей, посвященной жизни и деятельности В. П. Рябушинского. Автор статьи уделяет немалое внимание малоизвестным страницам из жизни Рябушинского, например, его участию в сражениях на фронтах Первой Мировой войны, а также участию в Белом движении времен Гражданской.
В сборник вошли такие фундаментальные сочинения В. П. Рябушинского, как «Старообрядчество и русское религиозное чувство», «Русский мир» (сочинения, посвященные судьбам русского предпринимательства, русских ученых и значению русской, послереволюционной эмиграции), а также подборка большого числа статей под общей темой «Русская икона».
Сборник «Старообрядчество и русское религиозное чувство» можно приобрести в книжном магазине Московской Митрополии, специализированных книжных магазинах г. Москвы или заказать через официальный интернет-магазин церковной лавки РПсЦ.
Понравился материал?
Лучшая благодарность за нашу работу — это подписаться на наши каналы в социальных сетях и поделиться ими со своими друзьями!
Источник
Владимир Рябушинский: старообрядец о старообрядчестве
Ибо, как человек, который, отправляясь в чужую страну,
призвал рабов своих и поручил им имение своё: и одному дал он пять талантов,
другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился.
Получивший пять талантов пошёл, употребил их в дело и приобрёл другие пять талантов;
точно так же и получивший два таланта приобрёл другие два; получивший же один талант пошёл и закопал [его] в землю и скрыл серебро господина своего.
«Если талантлив человек, так талантлив во всём» — именно этой крылатой фразой, авторство которой приписывают немецкому писателю Лиону Фейхтвангеру, мы привыкли определять характер, деятельность и образ жизни человека, разностороннего и одарённого.
Человек, которому от Бога ниспослан талант, в определённой степени — человек богоизбранный, ибо любое проявление таланта как дара Господня должно раскрываться христианином во имя Господа, ради прославления дел Его, бесконечной мудрости, милосердия и любви как высшего духовного состояния.
На протяжении всей предхристианской ветхозаветной и собственно христианской истории Бог определённым людям даровал различные таланты, дабы одарённые были Евангельским Светом миру.
Яркий пример сему — пророк Давыд, коего Господь наделил талантом игры на музыкальном инструменте того времени — «псалтыри» и мастерством художественного слова. В результате книга, вошедшая в канон Ветхого Завета — Псалтырь является для нас, православных христиан, образцом молитвы, духовного настроя и основой богослужения. Пример пророка Давыда является одним из ярчайших в Священной Истории. Новозаветное христианство также явило собою множество святых угодников Божиих, наделённых различными талантами: пением, писательством, храбростью, умом и так далее и так далее.
Известен Роман Сладкопевец, посвятивший свой голосовой талант приданию благообразия богослужению. Иоанн Дамаскин отличился музыкальными изысками в разработке осмогласия, Андрей Рублёв свой талант художника всецело посвятил развитию великих традиций православной иконописи.

Одним из выдающихся и известных талантливых представителей старообрядчества можно назвать историка, богослова, искусствоведа, писателя и мецената Владимира Павловича Рябушинского, жизнь и деятельность которого явила собою достойный пример того, как одновременно можно быть не чуждым христианского духовного опыта, обладать глубоким проницательным умом, аналитическими способностями, мастерством художественного слова и иметь материальное благополучие. Именно такие таланты сочетал в себе Владимир Рябушинский.
Рябушинские — дореволюционная династия старообрядцев, купцов, выходцев из крестьян Калужской губернии, которые благодаря трудолюбию, неустанной работоспособности, уму и сноровке быстро переместились из сословия крестьянского в потомственные почётные граждане. Именно таким титулом «потомственный почётный гражданин» был наделён отец Владимира Рябушинского — Павел Михайлович Рябушинский.
Достойный преемник рода Рябушинских, Владимир Павлович, в числе известных старообрядческих деятелей, помимо дел меценатства, занимает достойное место в письменном наследии староверия.
Кроме того, что Владимир Павлович добровольцем ушёл на фронт Первой мировой войны, организовал подвижной автоотряд, был тяжело ранен, награждён Георгиевским крестом IV степени, — его имя навсегда войдёт в историю русской религиозно-философской мысли.
Литературный и гуманитарно-научный талант Владимира Павловича Рябушинского проявляется уже в двадцатых годах XX века, в эмиграции. Перу Владимира Рябушинского принадлежит несколько сочинений, на страницах которых отображены фундаментальные мировоззренческие положения русского староверия, вероучительная позиция, религиозная психология и культурные особенности носителей дораскольного русского православия. Вниманию читателя предоставляется весьма интересная и довольно меткая цитата: «Истории старообрядческой словесности почти столько же лет, что истории раскола. Рябушинский остался в этой вере, несмотря на европейское образование, и стал одним из первых старообрядцев, способных говорить о принципах своей веры как европейские интеллектуалы, хорошо знающие не только отцов церкви, но и европейскую философию и русскую литературу» [2]. Так на примере интеллектуальной деятельности Владимира Рябушинского мы обретаем достойный пример, каким образом можно в себе органически сочетать «приятное с полезным». В данном случае «полезным» мы считаем стремление к знаниям, образованию и просвещению. «Приятным» же — духовный опыт, молитву, смирение, покаяние — основные добродетели христианства. Тем самым необходимо, с одной стороны, на слове и деле являться достойным примером веры отцов, с другой же — дать всякому спрашивающему аргументированный отпор в защиту своей веры.
Писатель Андрей Полонский пишет о характере отца Владимира — Павла Павловича Рябушинского: «Острое, почти болезненное самосознание, чувство ответственности за наследственное дело и за страну. Он, пожалуй, был первым, кто во всеуслышанье заявил: предприниматели — люди, способные обеспечить достаток и процветание, и есть истинные хозяева грядущей России. Но даже не предпринимательство, а именно политика стала средоточием деятельной страсти П.П. Рябушинского. Кодекс своих убеждений он сформулировал еще в начале века. Он соединял последовательный патриотизм и не менее последовательное преображение страны, исходя из национальных интересов. Именно из конкретных интересов, а не неких абстрактных принципов. При этом опыт его семьи, его старообрядчества удивительно уживались с пытливым любопытством, открытым взглядом на современность. Так, настаивая на развитии гражданского общества и укреплении политических свобод, он в то же время предлагал отделиться от Запада «железным занавесом» (Павел Павлович первым ввел в оборот это замечательное выражение), бороться за рынки, искать себе партнеров и соперников не в Европе, «где нас никто не любит и не ждет», а на Востоке, «где непочатый край работы» [2].
Можно сделать вывод, что сын Владимир Павлович по достоинству унаследовал характер отца и дух династии.
Перу и уму Владимира Павловича Рябушинского принадлежит ряд сочинений исторического, догматического и культурологического характера. Самые основные из них — это «Старообрядчество и русское религиозное чувство», «Русский мир», «Русская икона» и другие письма, послания.
В 2010 году московское издательство «Мосты культуры» выпустило в свет фундаментальное сочинение Владимира Рябушинского под общим названием «Старообрядчество и русское религиозное чувство», в издание которого были включены основные интеллектуальные творения автора [1].
Слог Владимир Рябушинского отличается простотой, естественностью, лёгкостью в сочетании с глубокой смысловой нагрузкой написанного. В этом отношении Владимир Павлович по стилю и духу сходен с русским религиозным философом и мыслителем Георгием Петровичем Федотовым, который, с одной стороны, не скрывал свои симпатии к дораскольной Святой Православной Руси, с другой стороны — излагал глубину своих мыслей и идей лёгким воздушным языком.
Одним из фундаментальных религиозно-философских произведений Владимира Рябушинского, бесспорно, является эпохальный по своей значимости труд «Старообрядчество и русское религиозное чувство».
Буквально с первых строк автор на корню развенчивает миф об устоявшемся стереотипе о старообрядчестве как явлении примитивном в религиозном плане, почти языческом. Рябушинский изначально задаёт тон и характеристику сущности староверия:
«Принципы эти обнимают область соприкосновения и взаимного проникновения духа и материи» [1, 33].
Автор таким образом задаёт сам тон книги, благовествуя читателю о том, что в настоящем труде речь пойдёт о совсем другом старообрядчестве, более духовном и жизнеспособном, далёком от образа, созданного в различных стереотипных дореволюционных официальных миссионерских изданиях. Таким образом, Рябушинский решается на смелый и одновременно гениальный ход — буквально сразу выбить из головы читателя все конфессиональные и информационные предрассудки и шаг за шагом, постепенно представить старообрядчество во всей его красоте.
Начинает Рябушинский с тонкого исторического анализа книжной справы. Напоминает читателю, что, оказывается, книжная справа на Руси — дело не новое, а традиционное, а наличие ошибок в процессе переписи книг — дело человеческое и естественное. «Исправление книг проводилось очень часто» [1, 34]. Резко критикует Павел Рябушинский совокупность современных ему религиозных сообществ, в молитвенной жизни которых разрушена гармония материального и идеального:
«Вся эта разнообразная масса объединяется лишь в одном: в противопоставлении духа обряду, в умалении последнего, в подчёркивании тех случаев, когда обряд соблюдался, а присутствие духа не чувствовалось. Из этого делается вывод, что обряд губит дух или в лучшем случае не нужен ему» [1, 39].
Однако немалый акцент делается автором на значимости литургики и литургических символов для религиозного самосознания православных христиан Востока. В сочинении отчётливо проводится связь между небрежностью в деле проведения реформы, её ненужностью, абсурдностью и искажением символа, что, по существу, приравнивается к искажению веры и началу духовного опыта, развивающегося вне Церкви. Святых отцов, известных не только духовным стремлением к совершенству, но и ратовавших за чистоту христианского богослужения, Рябушинский называет не иначе, как «творцы православного обряда» [1, 39], подчёркивая факт установления внешних форм богопочитания в эпоху величайшей христианской харизмы — духовности.
Совокупность исторических фактов в соединении с молитвенным опытом древлеправославных христиан позволила Владимиру Рябушинскому вывести и рационально, почти научно сформулировать извечный философский принцип соотношения материального и идеального, формы и содержания, бытия и мышления. В контексте старообрядческого мировоззрения Владимир Павлович приходит к бытийному постулату в духе Платона:
«Обряд не безразличен и не враждебен духу, наоборот — между ними существует большая внутренняя связь и зависимость… Сильно заблуждается тот, кто довольствуется одним обрядом, но великой опасности подвергаются и те, которые, достигнув высоты, начинают презирать обряд» [1, 39].
Аскетико-нравственную необходимость защиты религиозного явления, названного позже термином «обряд», Рябушинский формулирует в постулате, утверждающем следующую мысль:
«Нужна большая сила духа, особенно в теперешних условиях, чтобы хранить обряд: исполнение его — проверка духа» [1, 40], притом, что догматом автор называет «дух и интеллектуальную часть души» [1, 42].
«Обряд», по Рябушинскому, есть категория не только символическо-вероучительная, но и охранительная. В качестве примера автор приводит религиозный феномен беспоповства. Беспоповство можно назвать религиозным феноменом в переносном значении. Ибо проповедуя откровенно противную христианству мысль о прекращении священства Христова и Святой Евхаристии, беспоповцы по внутреннему чувствованию остаются истинными православными. А при переходе старообрядца-поповца в другое религиозное сообщество, последний, как правило, чаще выбирает старообрядческое беспоповство, нежели никонианское священство. Владимир Рябушинский даёт этому следующее обоснование.
«Cтарообрядцы-беспопвцы, теоретически, формально и внешне нередко исповедующие очень неправоверные учения, но не погрешающие в обряде, благодаря этому внутренне, духом не уходят далеко (точнее, совсем не уходят. — Авт.) от истинного древлего православия и остаются ему очень близкими» [1, 50].
Разделение церковной природы на вещи «главные» и «второстепенные» есть явление, не свойственное православию, чуждое и еретическое по духу. Стало возможным вычленение «догмата» от «обряда» и «обряда» от «догмата» только во времена Екатерины II, вод влиянием западноевропейской философии эпохи Просвещения. Видный старообрядческий историк Глеб Чистяков очень верно сказал: «Между тем еще каких-то сто лет назад термин «обряд» совершенно не употреблялся в среде древлеправославных христиан, не знала его ни древнерусская, ни византийская, ни древнехристианская церкви. Понятие «обряд» отсутствует в учении апостолов, отцов церкви и вселенских соборов. Однако сегодня многие не знают, что этот термин не только не православный, но и еретический, глубоко чуждый подлинному христианству» [4].
Исконное же осмысление христианской веры не схоластично, вычлененно и разделено, а органично, когда вероучительное определение творит красоту «обряда», а с другой стороны, красота «обряда» подсказывает открытому сердцу догматическую правоту Православия. Ибо догматическая сторона обряда «настолько переплетена и органически слита с выражением религиозного чувства — с одной стороны, с плотью и материей — с другой, что методом одного рассудка их ни выделишь, ни распознаешь» [1, 42].
Переосмысливая интеллектуально-духовное наследие Владимира Рябушинского, не лишним будет утверждать, что духовный опыт старообрядчества и сохранение данной религиозной нишей христианского духа и Апостольского Предания входит в соответствие со святоотеческим духовным опытом. Известно высказывание святителя Василия Великого о Церковном Предании: «Ибо аще предпримем отвергати неписаные обычаи, аки не великую имеющие силу: то неприметно повредим Евангелие в главных предметах и сократим проповедь до одного лишь имени, без всякия вещи. Например, прежде всего упомяну о первом и самом общем, чтобы уповающие на имя Господа нашего Иисуса Христа знаменались знаком креста — кто учил сему писанием? К востоку обращатися в молитве какое писание нас научило? Слова призывания при преложении хлеба евхаристии и чаши благословения кто из святых оставил нам письменно? Ибо мы не довольствуемся теми словами, о коих упомянул Апостол или Евангелие, но и прежде, и после оных произносим и другие, как имеющие великую силу в таинстве, приняв их от неписанного учения. Благословляем такожде и воду крещения, и елей помазания, еще же и самого крещаемого, по какому писанию; не по преданию ли, умалчиваемому и тайному? И что еще; самому помазыванию елеем какое писаное слово научило? откуда и троекратное погружение человека, и прочее, бывающее при крещении: отрицатися сатаны и ангелов его из какого взято писания? Не из сего ли необнародываемого и неизрекаемого учения, которое отцы наши сохранили в неприступном любопытству и выведыванию молчании, быв здраво научены молчанием охраняти святые таинства? Ибо какое было бы приличие писанием оглашати учение о том, на что непосвященным в таинство и воззрение недозволительно?
И далее. Сия есть вина предания без писаний, дабы к многократно изучаемому познанию догматов не утратили многие благоговения, по привычке. Ибо иное догмат, а иное проповедание. Догматы умалчиваются, проповедания же обнародываются. Род же умолчания есть и неясность, которую употребляет Писание, неудобосозерцаемым творя разум догматов ради пользы читающих» [5].
Учение о взаимосвязи «внешнего» и «внутреннего», «обряда» и «догмата», «идеального» и «материального» резюмирует один из авторитетнейших старообрядческих богословов современности профессор Михаил Олегович Шахов. В своей интереснейшей фундаментальной монографии «Религиозно-философские основы старообрядческого мировоззрения», написанной увлекательно, легким, простым и доступным языком, старообрядческий профессор в один тон с Рябушинским пишет: «Православная Русь не подверглась влиянию схоластического мировоззрения и сохранила образ мышления, унаследованный от восточной патристики. Поэтому для традиционного православного мировоззрения были вдвойне чуждыми аргументы, направленные на преуменьшение значимости изменения материальных форм богопочитания. С одной стороны, православные философско-мировоззренческие представления о взаимосвязанности материального с идеальным не допускали возможности того, чтобы искажение первого не оказало влияние на второе» [6, 123]. А корень самого церковного раскола кроется не в как таковом изменении «обрядов», а в дилемме: менять самопроизвольно, когда захочется, или же привести в гармоническое соответствие ум и сердце и смириться с Волей Божией и уже после этого следовать Промыслу. Но данный путь сложен, трудоёмок, тернист и каменист. Гораздо легче придумать всё от головы, рационально, нежели познать истину в свете Духа. Шахов пишет: «Схоластическое разделение в церковной жизни на «важнейшее» и «второстепенное», которое можно произвольно менять, не могло быть согласовано с православным мировоззрением, видевшим элементы не в противопоставлении, а в гармоническом единстве, при котором общая гармония обусловлена всеми элементами и их сочетанием. Православные традиционалисты и представители «европейского типа мышления», развившегося из схоластики, в принципе не могли понимать друг друга в таком споре» [6, 132].
Самым интересным в контексте данного исследования является факт идентичности религиозного самоощущения поповцев и беспоповцев в общих вопросах бытийного и интеллектуального характера. То, о чём говорил в начале XX века старообрядец-поповец Владимир Павлович Рябушинский — о том же говорит учёный-профессор, принадлежащий к старообрядцам-беспоповцам Михаил Олегович Шахов. А предмет разговора единый — православное бытие.
Владимир Рябушинский проводит органическую связь между старообрядчеством и русским средневековым иосифлянством. Преподобный Иосиф Волоцкий — один из величайших христианских святых, прославленных Русской Церковью. Характер духовной жизни в идеале преподобного игумена Иосифа деятельный: это дисциплина, строгий распорядок и регламент, ревность к уставу. Каждое малейшее созерцание одного христианина устремляется под общий знаменатель так называемой «всеобщей праведности и святости». Святость уже не есть частное делание отдельного человека, а всеобщая данность, своего рода общественное достояние. Отсюда идея богохранимой державы во главе с помазанником-царём. Если сам царь отойдёт от православия — он становится олицетворением антихриста.
«История религиозного чувства в старообрядчестве — это история религиозного чувства иосифлян после XVII века» [1, 48].
Рябушинский, кроме определения основной вероучительной концепции «догмат» — «обряд» достойное место уделяет принципам искания Истины в христианстве. Истина в христианстве, в контексте сочинений Рябушинского есть результат Богооткровения, оставленный человечеству в Священном Писании и Священном Предании. Анализируя сущность и исторический подтекст церковной «реформы», автор приходит к выводу, что Истина есть: «у старообрядцев непоколебимая преданность установлениям Церкви; а у послениконовских церковных властей особенно резко сформулированное Иоакимом (патриархом Московским. — Авт.) требование слепой покорности архиереям» [1, 59].
Таким образом, сочинение мецената, общественного деятеля, старообрядческого философа Владимира Павловича Рябушинского занимает достойное место среди великой плеяды древлеправославных мыслителей, чьи труды были направлены на интеллектуальную защиту Старой Веры. А феномен разносторонних талантов этого мыслителя есть светоч современного старообрядчества, на который должны равняться наши с вами современники.
Роман Аторин, кандидат философских наук, доцент кафедры философии РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Источник