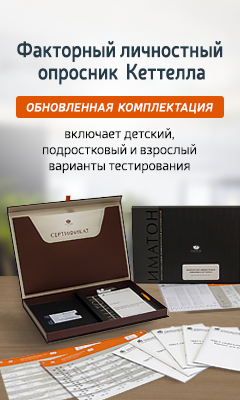- Помощь при стрессе
- Зачем нужна помощь при стрессе?
- Причины стресса
- Почему у диких животных не бывает подобных переживаний?
- Требуется ли ребенку помощь при стрессе?
- Что происходит при стрессе?
- Факторы возможного стресса
- Обычная помощь при стрессе
- Ошибки
- Возможные осложнения после стресса
- Помощь при стрессе в клинике
- Психологическая помощь людям пережившим травматический стресс
- Инструментарий
- Программы обучения
- Скоро
- Помощь при актуальном травмирующем событии. Профилактика ПТСР
- Оперативная помощь при актуальном травмирующем событии
- Пример реабилитирующей работы с травмой отношений
Помощь при стрессе
Помощь при стрессе и после стрессового воздействия на психику человека требует особых, индивидуальных решений. Это связано не только с индивидуальными особенностями формирования и становления нервной системы. Следует учитывать и особенности окружения человека, его привычной среды, привычек и социальные факторы.
Помощь при стрессе — горячая линия +74951350109
Звоните, мы помогаем в самых тяжелых ситуациях. Наше лечение подбирается строго индивидуально и не нарушает привычного ритма жизни. Мы используем новейшие разработки восстановительной терапии. Наши терапевтические программы работают всегда!
Зачем нужна помощь при стрессе?
Стресс — это деструктивная реакция организма на конфликт между объективной и субъективной реальностью. По сути, это защитная реакция организма. Однако, это может серьёзно навредить психической деятельности человека.
Каждый день человек испытывает на себе воздействие различных физических и психических факторов. Жизнь — это процесс, в ней постоянно что-то меняется. И наша психическая деятельность направлена на встраивание новых элементов в нашу реальность. Мы делаем это каждую секунду. Здоровая личность быстро и конструктивно приводит в соответствие субъективные и объективные факторы, сохраняя общую картину мира. Это называется в обществе целостной личностью.
Последствия стресса могут сформировать более сложные психические расстройства. Это связано с тем, что в момент стрессовой нагрузки головной мозг работает в режиме перегрузки. Может произойти срыв высшей нервной деятельности, даже с изменением обменных процессов головного мозга. Поэтому квалифицированная помощь при стрессе необходима практически каждому человеку.
Причины стресса
Наша зона комфорта сохраняется только тогда, когда есть согласованность между внутренним и внешним. Но бывает, что несколько новых факторов появляются одновременно и они резонируют, либо возникает один фактор, но очень значительный. В связи с этим человек становится неспособным быстро сориентироваться в ситуации и привести ее в соответствие со своим внутренним представлением о мире. И тогда неразрешенный конфликт приводит к стрессу.
Почему у диких животных не бывает подобных переживаний?
Животное не разделяет вещи на объективные и субъективные, у него нет двойственности и, соответственно, не возникает внутреннего конфликта. В любой ситуации оно делает все, что зависит от его физических способностей: может убежать либо покусать врага, уйти от холода, направить все силы на поиск пищи и воды. Зверь однозначно оценивает окружающую ситуацию, свои силы и место в общественной иерархии, так как опирается на свой опыт, а не на логику (абстрактный ум). Он не рассуждает, почему он находится внизу иерархической лестницы, а пробует пробиться наверх, путем определенных ритуалов и схваток с соплеменниками.
Человек же более развитое существо. У него есть представление об идеале (часто навязанном) и собственные индивидуальные потребности. Также его ограничивают культурные и моральные рамки: нормы, правила, запреты, требования, сложившийся этикет, долг перед близкими или Родиной, психологический гнет и т. д. Все это, время от времени, приводит к конфликту интересов. Ребенок захотел на уроке в туалет, но боится строгого учителя или есть страх публичного заявления. Он терпит и не поднимает руки.
Требуется ли ребенку помощь при стрессе?
У ребенка возникает конфликт между его объективным знанием, что сходить в туалет это вполне доступно и легко, и искажением воспитания из-за своих субъективных установок. Ему предстоит принять решение: потерпеть до конца урока и признать себя слабаком, либо открыто заявить перед всем классом о своей потребности. Если он продолжает метаться между двумя решениями — возникает психологическое давление.
Возьмем другую ситуацию — неизлечимую болезнь. В идеале, при неизлечимой болезни, мозг перестраивает свою деятельность, чтобы справиться с ситуацией: вырабатывает обезболивающие вещества (боль, как защитный фактор уже не нужна организму) и постепенно готовит организм к умиранию, поэтапно отключая органы тела. Либо он решает бороться за жизнь любой ценой и тогда организм тоже начинает вырабатывать все необходимые лечебные факторы для выздоровления.
Но, необходимо помнить, что нервная система у ребенка ещё не окрепшая и большие стрессовые нагрузки способны нарушить биологический баланс. Именно поэтому помощь ребенку при стрессе так же, а может и в большей степени, необходима.
Что происходит при стрессе?
Что же происходит на самом деле, при сформированной в настоящем обществе культуре? Неизлечимо больной в первом случае (если принимает факт смертельной болезни) начинает винить врачей и неразвитые технологии, которые упустили диагностирование болезни на раннем этапе, возникает ощущение несправедливости к себе: судьбы и Бога. Он уверен, что мог прожить еще, если бы не данная несправедливость. Отсюда идут страдания.
Теперь рассмотрим больного со вторым типом реагирования — собственную веру в выздоровление. Такой человек начинает бороться за свою жизнь, активно использует открытия научной медицины, альтернативные способы лечения, перестраивает свое мировоззрение на новый лад. И тут он сталкивается с сопротивлением общества. Врачи упорно твердят ему о конечной стадии болезни, родственники сожалеют, но отказываются помогать ему, собственные знания и описания болезни в литературе так же описывают его ближайший уход. Налицо — конфликт собственных потребностей и знаний общества. Нужно иметь немалую силу духа, чтобы сохранить равновесие и продолжать бороться до победного. Во врачебной практике, литературе и интернет-источниках появляется все больше и больше таких историй.
Человек консервативный, ригидный более подвержен стрессовым ситуациям, чем динамичный и гибкий. Ему сложно принять факт нового, и в его реальности происходит разрыв между его миром и «миром снаружи». Это относится к личностным факторам стресса.
Факторы возможного стресса
- Психологический (эмоциональный, травматический и информационный)
- Физиологический
- Кратковременный и хронический
- Эустресс и Дистресс.
Эмоциональный — связанный с переживанием сильных эмоций. Причем не важно, являются ли эти эмоции положительными (эустресс) или отрицательными (дистресс). Помощь при этом виде стресса: уход из стрессирующей ситуации: необходимо время, чтобы дать эмоциям остыть, а самому успокоиться.
Посттравматический или, правильнее, посттравматическое стрессовое расстройство — это болезненное состояние после пережитой травмирующей ситуации (трагическая потеря близких, нахождение в зоне боевых действий, катастрофы, изнасилование, прямая угроза жизни и т. д.) Помощь при посттравматическом стрессе включает медикаментозную терапию, общеукрепляющие процедуры, глубинную психологическую проработку остаточных явлений, обучение саморегуляции и расслаблению, работу с эмоциями.
Информационный связан с факторами экстремального воздействия учебного процесса или профессиональной деятельности (так называемое заболевание оператора), когда происходит перегрузка когнитивных функций человека большим потоком новой информации. Первой помощью при информационном стрессе является смена обстановки и рода деятельности: посетить музей, заниматься спортом. Немаловажное значение придается переходу на самостоятельную работу в учебном или производственном процессе, без контроля со стороны.
Физиологический — проявляется при воздействии на человека неблагоприятных физических факторов: жара, холод, голод, жажда. Это можно проследить на примере голодания в качестве метода похудания. Вместо того, чтобы организму использовать накопленные жировые отложения он блокирует доступ к запасам. Таков ответ на внешний стрессовый фактор. Такие женщины жалуются на стабилизацию веса и отсутствие эффекта похудания от голодной диеты. Параллельно появляется напряжение, раздражительность и эмоциональная нестабильность. Основной помощью при стрессе, связанном с воздействием физических факторов является устранение самого фактора. Требуется смена отношения к нему, общеукрепляющие процедуры и выработка толерантности к физическим внешним воздействиям.
Обычная помощь при стрессе
Обычно, когда человек длительное время находится поз воздействием стресс фактора или уже по окончанию этого воздействия, он начинает ощущать слабость, потерю аппетита, расстройство сна, утомляемость. Как правило с этими жалобами он приходит к терапевту. Терапевт использует общую тактику, старается убрать симптоматику. Но, обычно, рекомендует посетить психиатра для назначения специфической терапии, которая предупреждает развитие психических расстройств. Необходима так называемая постстрессовая терапия.
Терапевт может ограничиться лишь общими советами по антистрессовой терапии, это:
- восстановление режима труда и отдыха,
- общеукрепляющая терапия (витамины, фитотерапия, ароматерапия, водные процедуры, включая закаливание),
- пройти обучение способам саморелаксации и саморегуляции организма,
- назначает легкие успокоительные препараты.
Психологи предлагают первую помощь при стрессе:
- глубокое и спокойное дыхание,
- остановка внутреннего диалога,
- диссоциированность от ситуации (посмотреть на себя со стороны),
- выражение мышечного напряжения вовне (удар кулаком по стулу, крик, бег на месте, бой посуды, танцы под громкую музыку и т. д.).
Сколько психологов, столько будет и самых разнообразных советов. Но это не решит главного вопроса — предупреждение формирования постстрессового расстройства. Не будет специфического лечения. Хотя большинство этих советов можно присовокупить непосредственно к необходимой терапии при стрессах.
Ошибки
Основными ошибками при стандартных советах психолога и терапевта является то, что не учитывается биологическое негативное влияние на физиологические процессы головного мозга. Если терапевт рекомендует пациенту посетить психиатра, то это не означает, что человек превратился в психа. Эта рекомендация говорит лишь о грамотном подходе специалиста к проблеме. Он желает, чтобы пациент полностью смог избавиться от возможных последствий.
Психолог, который пытается самостоятельно решить эту проблему, скорее всего малообразован. Он не понимает всю возможную опасность развития последствий полученного человеком стресса. И это не удивительно так как психолог имеет педагогическое образование. В своём стремлении помочь не может видеть возможные биологические изменения в организме.
Главной ошибкой является то, что человек боится на данный момент обратиться к психиатру. К тому специалисту, который может реально помочь и предотвратить возможные последствия. Однако, не стоит бояться! Идите на прием к психиатру и это поможет Вам не только избежать последствий стрессовой нагрузки, но и укрепит нервную систему.
Возможные осложнения после стресса
- тревожные расстройства;
- депрессии;
- неврозы;
- психосоматические расстройства;
- фобии.
Вот перечень основных, наиболее распространенных психических состояний которые чаще всего формируются у человека после стрессового воздействия. К сожалению они формируются именно потому, что люди вовремя не обратились к психиатру. Позже эти расстройства приобретают хроническое состояние от которых потом очень не легко избавиться.
Помощь при стрессе в клинике
Наша клиника впервые обратила внимание на стрессовые и пост стрессовые расстройства как конфликт между реальностью и внутренним восприятием ее человеком. Мы разработали новый подход к избавлению от острого состояния при стрессовых нагрузках и предупреждению возможных осложнений. Наши методики основаны на как устранении биологических изменений обменного характера, так и на дезактуализации деструктивного влияния факторов через их осознание и включение в свою систему мира. Если резонирующих факторов слишком много, то выделение приоритетных и уход от остальных, как второстепенных.
Мы успешно применяем антистрессовые комплексные программы уже более 20 лет которые помогли сотням людей.
Пройти антистрессовую программу и качественно повысить уровень жизни Вы можете, записавшись по телефонам указанным на сайте.
Источник
Психологическая помощь людям пережившим травматический стресс
Инструментарий
Программы обучения
ВЕБИНАР: Сновидения как ресурс бессознательного. Практика использования в психологическом консультировании
Основы проведения специального психофизиологического исследования с применением полиграфа
ВЕБИНАР: Краткосрочные методы работы с психотравмой. Авторская методика оптимизации осознавания
Скоро
III Международная научно-практическая конференция «Современное состояние и перспективы развития психологии труда и организационной психологии»
VIII Международная научно-практическая конференция «Медицинская (клиническая) психология: исторические традиции и современная практика»
Международная конференция «Ананьевские чтения – 2021. 55 лет факультету психологии СПбГУ: эстафета поколений»
Международная конференция «Дифференциальная психология и психофизиология сегодня: способности, образование, профессионализм»
Всероссийская конференция с международным участием «Альянс психологии, психотерапии и фармакотерапии. Наука и реальный мир в лечении психических расстройств»
VII Международная научно-практическая конференция «Психологическое здоровье личности: теория и практика»
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Психология творчества и одаренности»
V Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление»
Международная научная конференция «Л.С. Выготский и современная культурно-историческая психология: проблемы развития личности в изменчивом мире»
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Диагностика в медицинской (клинической) психологии: традиции и перспективы» (к 110-летию Сусанны Яковлевны Рубинштейн)
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Психологическая служба университета: опыт пандемии»
Международная научно-практическая конференция «Общение в эпоху конвергенции технологий»
Международная научная конференция «Психологическое время и жизненный путь: каузометрия и другие подходы»
Помощь при актуальном травмирующем событии. Профилактика ПТСР
Автор
Оперативная помощь при актуальном травмирующем событии
Тактика действий терапевта в острой ситуации, в которой человек стал участником травмирующего эпизода, направлена на профилактику последствий пережитого стресса. Тактика, которую рекомендуют использовать, на первый взгляд противоположна житейской логике. Житейская бытовая логика, о которой мы уже упоминали, требует успокоения. По принципу: «если внешне успокоился, следовательно, внутри все как-нибудь само уляжется!».
В противоположность этому тезису, профессиональные рекомендации предлагают создать активную ситуацию коммуникации. В этой коммуникации терапевт побуждает человека, пережившего неприятную ситуацию, выговориться, рассказать о чувствах, мотивах, надеждах, разочарованиях, незавершенных действиях, выразить их, обсудить отношения с другими участниками ситуации. Терапевт может препятствовать тому, чтобы человек уснул до того, как будут выражены чувства и человек сориентируется в своих мотивах и желаниях, и в ситуации. Эту профилактическую работу необходимо сделать до того, как в сновидении произойдет «интеграция негативного опыта», после которого многочисленные ассоциативные связи просто запутают и затруднят профилактическую работу.
Например, рекомендации, которые дает Шведская служба социальной работы для действий консультантов по помощи людям, попавшим в кризисные ситуации, вполне конкретны. Вот пример истории, которую мне пришлось услышать на семинаре. В результате автомобильной катастрофы погибла молодая пара. Двое детей дошкольного возраста попали к родственникам, которые готовы были принять над ними опеку. Сотрудник социальной службы проводил профилактическую коммуникацию. Он сообщил детям, что «жизнь родителей прервалась», и через несколько дней посетил с ними место, где произошла авария. Он сказал детям, что «теперь заботиться о вас будет тетя Лора, что на занятия вас будет возить Н., что за помощью вы будете обращаться к К.». Итак, сотрудник перечислил все мыслимые области активности детей. Он подсказал им форму для выражения горя по поводу утраченных родителей. Такая форма казалась слишком «холодной», но дети были маленькие, 4 и 5 лет. И действительно, более гуманным было дать им выразить свою растерянность и подсказать способ восстановления картины мира, чем добиваться от малышей бесконечного ужаса и разрушительной неопределенности, и переживаний растерянности в связи с утратой родителей.
Пример реабилитирующей работы с травмой отношений
Этот эпизод уже кратко упоминался в книге. Содержание эпизода, последствием которого был ПТСР: мама отдает на пятидневку дочь. Девочка Катя вцепилась в маму. Мама отослала ее от себя, приказав: «Принеси мне сумку!». «Я вернулась», – рассказывает Катя терапевту, – «а ее нет. У меня недоумение и растерянность. Я совершенно одна, («этого не могло быть»). И нет локтя, кто поддержал бы. Дети дразнились, что я нервничаю. Я совсем одна. Лучше бы мама отошла сама при мне!».
В ходе сессии терапевт спрашивает клиентку: «Ты становилась на ее место?». Та отвечает: «Да, она это сделала, чтобы самой не переживать. Позаботилась о себе больше, чем обо мне. И это вызывает злость! Хотя я сейчас как взрослая ее понимаю и не считаю свою злость правильной». Эти чувства клиентки понятны и естественны в системе отношений, которая реконструируется на эпизод травмы. Диагностика нарушения композиции дает картину предательства и разрушения отношений в системе: разрыв картины мира ребенка, «как же она могла нарушить свои обязательства, ведь я же выполнила свои!». Мама отослала, а потом ушла. И воспроизведение ситуации с выражением чувства протеста только воспроизводит ситуацию бессилия. Отреагирование чувств девочки в адрес матери ничего не меняет в композиции, и требуется другая экспериментальная работа. Чтобы создать эксперимент, терапевт обдумывает ситуацию в более широком контексте, чем его видит «девочка». Принципиально то, что сама девочка по своему возрасту не могла сформулировать свою претензию, а ее чувства недостаточны, чтобы «переналадить» ситуацию. Тут решающее слово, как ни странно, за взрослым. И только введение дополнительного взгляда на ситуацию позволяет прояснить предмет конфликта. Поэтому помощь будет оказана не в духе «завершения незавершенного действия», а в духе «реконструкции и достройки» системы отношений. Итак, терапевт может сделать гипотезу, что по (общественному) договору, мама, дав поручение, должна ждать ребенка и наградить. Это ситуация тупика. Так как претензии к маме, которые будут высказаны ребенком, только раздражают маму и удаляют ее от ребенка, и разрушают отношения, тем самым ухудшая ситуацию ребенка. Феноменологический анализ показывает, что агрессия ребенка бессильна в плане изменения ситуации. Такая ситуация может быть классифицирована как указанная нами выше особенность травмы отношений.
Вернемся к сессии. Катя сообщает, что «так и в жизни. Если то-то заранее обещанное не выполняется, то у меня получаются эпизоды неукротимой ярости. Это, наоборот, все либо ухудшает в отношениях, или даже меня дразнят». Терапевт предлагает продолжить работу с телом, так как его гипотеза о нарушениях в системе отношений должна быть проверена. И в любом случае объяснения и интерпретации тут не помогут, поэтому нужно воссоздать эпизод во всей силе его чувства и сделать реконструирование непосредственно в живом эксперименте. Поэтому терапевт спрашивает Катю о физических ощущениях и ассоциациях из детства к этим физическим ощущениям. В надежде, что ассоциации дадут ключ к реконструкции.
Катя: «Сейчас только под лопаткой болит. И вспоминается сон из детства. В раздевалке ищу туфли, дети бегают. Спрашиваю какую-то девочку: «Не видела ли туфли?». И девочка: «А зачем коротышкам туфли?». Злость сильная: «Как эта соплячка смеет так говорить! Она убегает (терапевт отмечает, что в композиции сновидения эта смена сюжета соответствует срыву контакта и воспроизведению картинки конфликта в новой, упрощенной, или более архетипичной композиции. Подробнее о связи появления символических фигур архетипического ряда и срыва контакта в сновидении мы расскажем в другом месте. Пока заметим, что есть ответвление сюжета от основной фигуры). Я нахожу оранжевые босоножки. Но они не те!».
Терапевт предлагает фрагмент работы со сновидением, с темой отношения героини к девочке. Катя уверенно входит в образ и сообщает, немного детским голосом: «Раз она наглая – значит, она и спрятала. Тебе и так, мол, нормально, без туфель, перебьешься». В этом высказывании, конечно, есть сильный этический заряд и публичная агрессия. И в этой сценке из сна принципиально важна реакция и поведение публики. Как они отреагируют в сценке из сновидения на поведение наглой девочки? Потому что не драка с девочкой (победить и отобрать), а социальные стандарты взаимоотношений решат этот конфликт. Эта роль публики настолько очевидна, что Катя переключается и продолжает: «В той ситуации сна достаточно было бы, чтобы кто-то из окружающих сказал, что в той ситуации девочка (в жизненной ситуации – мама!) нехорошо сделала, убежала, наврала о босоножках, но она вернется, прости ее!». Стоит прокомментировать эти реабилитирующие действия окружающих. Конечно, этого поступка со стороны окружающих в ситуации травмы не было. Но если представить себе, что это действие состоялось, то в чем его реабилитирующая (исцеляющая) сила? Как ни странно, в этой реплике нет утешения. Это просто феноменологическое высказывание. Все, что требовалось, это признать факт. А потом дать надежду. Катя слушает небольшое рассуждение терапевта и, вздохнув, продолжает: «Да, мне это даже в голову не приходило. Я хорошо помню, что в той ситуации дети сказали – зачем тебе мама, и так перебьешься. Мы же перебились!» (тут терапевт мог бы мысленно посетовать о том, какие разные бывают формы поддержки. В этом случае поддержкой было бы не телесное прикосновение и объятия, а помощь в том, чтобы сориентироваться и услышать правду. В том числе, этически ориентированное заявление, что мама нехорошо сделала, и исправит это. Такой подход может вернуть картине ситуации осмысленность). Сессия продолжается. Интервенция терапевта: «Итак, конечно, мама нехорошо сделала, когда обманула маленькую Катю, надо было, чтобы кто-то рядом сказал: «она неправа, потерпи, она вернется»». Такое ожидание девочки можно было легко реконструировать на основании подсказки из сна.
Катя: «Да, даже если бы тогда меня пожалели, отвлекли и сказали – «успокойся, теперь я с тобой» – это было бы не в тему. Все равно бы отвлекало. Мне нужна была ясность» (мысленно терапевт вспоминает многочисленные ситуации, когда такой же эпизод проигрывался не со взрослым человеком, а с ребенком, в работе по заказу родителей. Как часто возникает в подобных ситуациях этический конфликт, так как может показаться, что терапевт вовсе не восстанавливает картину отношений, а просто настраивает ребенка против мамы, а ведь от нее заказ на работу).
Итак, композиционная ясность конфликта восстановлена, и теперь можно создать реабилитирующую сценку, в которой в разговоре на пустых стульях с воображаемой фигурой Катя выскажет спокойно претензии к своей маме. Ситуация контакта восстановлена.
Реконструкцию эпизода и реабилитирующие сцены не обязательно проигрывать в событийном эксперименте, иногда достаточно просто обсудить тему. Но чаще полезно сделать игру, так как могут оказаться дополнительные, не выявленные в вербальном обсуждении фигуры и мотивы.
Как будто бы, сессия завершена. Справедливость восстановлена в этически корректной реконструкции сценки и контакт восстановлен в ходе создания полноценной композиции. Но этого недостаточно! Так как в том эпизоде сохранился опыт бессилия агрессии ребенка, и только вмешательство внешних сил восстановило ситуацию. Поэтому после того, как восстановлен контакт в уроне социальной группы (композиции отношений), стоит вернуться к задачам восстановления контакта в области спонтанной активности субъекта. То есть, в данном случае вернуть агрессии маленькой девочки Кати потентность. Тем более, что энергии для такого эксперимента достаточно.
Терапевт предлагает Кате создать эксперимент, в котором будет творчески реконструирован такой вариант активности ребенка, в котором для ребенка ситуация имела бы позитивный исход. Например, «почему бы маленькая Катя не рискнула бегом догнать маму и не вскочить как акробат, на нее верхом!? Мама не сможет сопротивляться и тогда можно будет попасть домой. И только потом дома разборки!».
Катя легко включается в обсуждение этой возможности и развивает тему: «Да, я легко и с удовольствием прямо сейчас представила такую сценку, мне весело! И с удовольствием фантазирую о том, как дома будет шумный конфликт: мама говорит «мне надо на работу», а дочь – «забирай меня домой». И потом долгая торговля. Конечно дочь согласится, но до того будет поиск компромисса. Потом уже прийти в детский сад совсем другое дело!».
После проработки этой фигуры терапевт предлагает рассмотреть мысленный эксперимент развития активности ребенка с негативным содержательным исходом. «Девочка догнала бегом маму, а мама скинула ее, тут девочка устроила крик, вопли, начала валяться на асфальте, а мама все равно ушла». Терапевт: «А как такая фантазия могла бы продолжиться?». Катя (подумав): «Наверное, девочка бы устала, перестала плакать, запечалилась, а потом смирилась бы с тем, что проиграла и успокоилась. Это печально, но в этом есть справедливость!», (комментарий консультанта: заметно, что названы все стандартные фазы проработки переживания утраты, в данном случае — проработка отделения).
А что, если проработать в этой композиции еще и фигуру мамы, предлагает терапевт. Катя соглашается, но выражает сомнение, что мама как-то может изменить свое поведение. Девочка, конечно, бессильна перед активностью мамы. И девочка бессильна оказать влияние на маму, у нее нет «инструментов», нет средства влияния на маму. И тут мы подходим к самой сердцевине работы по реабилитации и исцелению травмы.Терапевт делает принципиальную реабилитирующую интервенцию: пусть мама в той сценке получит поддержку, и с ней, например, поговорит мудрый человек, утешит и «вразумит ее». Ведь она просто устала, но на самом деле она позитивно настроена к своей дочке. Возможно, ей на пути встретится консультант по детям, и она, успокоившись, наконец «поймет», что нехорошо бросать дочку просто так. И мама вернется, дочка и мама встретятся (контакт будет восстановлен). Катя поддерживает эту игру и продолжает, с облегченной улыбкой: «В моей фантазии мама возвращается с виноватым видом, и приносит игрушку, которая заменяет девочке маму на время пребывания в трудной ситуации. И с грустью расставания придется просто примириться».
Работа закончена. Мы отдаем себе отчет, что представленные выше сценки – не руководство по поведению родителей с детьми. Это реконструкция чувств взрослого человека, которые спроецированы в давнюю ситуацию детской травмы. Поэтому некоторая «зрелость» выражения в этих эпизодах естественна. Терапевт отдает себе отчет в том, что «в жизни все было бы не так!», и в то же время инфантильные переживания ребенка, сохранившиеся в душе взрослой женщины в относительно изолированной форме, также проявились и были, наконец, освобождены в данных экспериментах. Сам детский эпизод – не самоцель для такой работы. Так как смысл и нацеленность этой работы были в области актуальных переживаний Кати, ее заказ был по поводу «немотивированных вспышек обиды и ярости в ситуациях, когда другой человек обещал и не сделал!».
Некоторые комментарии вдогонку. Стоит заметить, что в эксперименте терапевт предлагал девочке «догнать маму и схватить ее рукой, забраться на нее!». Такая телесность активного контакта не случайна. Возможность действовать и совершать агрессивно-захватывающие действия рукой в контакте принципиальна для восстановления активности в фантазиях и взрослого, и ребенка. Можно обратить внимание на изысканность параллели вектора агрессии из сновидения и в жизненной ситуации. (Бессильная ярость в ситуации ушедшей мамы суммируется с реальной злостью против высмеивающей девочки). В сновидении имело место осуждение (этический запрет) на агрессию для девочки, у которой вторая отобрала туфли. То есть, запрет агрессии против тех, кто проявляет к тебе агрессию. В реальности детского сада была запрещена (обещано наказание) агрессия против тех, кто, видимо, в саду «утешал» вновь прибывшую («взрослые запрещали драться»). В реконструкции отношений с мамой тот же запрет (угроза наказанием отвержения) останавливал девочку от того, чтобы рукой ухватиться за маму. В этой ситуации разрешение конфликта было не в области проявления агрессии, а в области свободы выдерживания напряжения конфликта и переговоров.
Источник

.jpg)