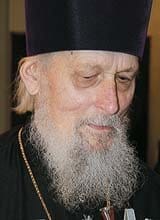«Мы знали, что вы придёте!» Как встречала наших воинов освобождённая Европа
Толпы людей на улицах, где-то разрушенных до основания, где-то уцелевших ценой жизни советских солдат, как в той же Праге, плачущие от счастья женщины и мужчины с охапками цветов, которыми они забрасывают запыленные в маршах через полмира «тридцатьчетверки» с красными звездами на башнях… Такие кадры кинохроники большинству из нас знакомы с самого детства. Так что же, получается, все это фальшивка? «Сталинская пропаганда»? Конечно же, нет! Заставить притворяться, «сыграть» такие эмоции людей, перенесших многолетний кошмар нацистской оккупации, было бы никак невозможно.
Помимо кинокадров, фронтовых фотографий, сохранилось множество документальных свидетельств как тех, кто шагал по улицам освобожденной Варшавы, Белграда, Будапешта, Софии и других европейских городов, так и тех, кто совершенно искренне встречал этих людей как спасителей, избавителей, защитников. Есть рассказ жителя Праги, который еще ребенком стоял на баррикадах и в качестве спасения надеялся только на одно – прорыв в город русских танков. И дождался… А наш солдат вспоминал, как не сдержал в Чехии слез стоявший рядом с ним седой ветеран, которому один из местных жителей перевел слова молодой девчушки, никак не желавшей отходить от него: «Мы вас так ждали! Мы всегда знали, что вы придете и спасете нас!»
Не менее тепло принимали наших воинов в Болгарии и Польше. Сохранились подлинники соответствующих донесений, поступавших командованию по этому поводу, в которых говорится об «исключительном дружелюбии жителей», которые «почти поголовно выходят на улицы для встречи колонн наших войск, несут заранее приготовленные цветы и стараются угостить бойцов и командиров кто чем может». Впрочем, в той же Польше с таким вот повальным ликованием и теплым отношением красноармейцы сталкивались не везде – кто-то таил обиду за 1939 год, кто-то находился под влиянием Армии Крайовой, призывавшей «насмерть драться с Советами». Бывало всякое.
Еще сложнее было в Румынии и особенно Венгрии. Обе эти страны не просто были союзницами нацистской Германии – их граждане принимали самое активное участие в боевых действиях против РККА на территории СССР и его оккупации. Впрочем, румынам так осточертели и немцы, и режим Антонеску, что советских солдат они, смирившись с поражением, встречали скорее с радостью, чем с ненавистью. Во всяком случае, в 1944 году газета «Красная звезда» описывала, как жители Бухареста приветствуют Красную Армию «со слезами радости на глазах». А вот при взятии Будапешта многие венгры, согласно документальным свидетельствам, до последнего помогали как раз пытавшимся удержаться в городе немцам и воевавшим с ними плечом к плечу собственным солдатам. Там особой радости от прихода наших войск не было, а солдаты и офицеры РККА, по воспоминаниям, еще долго чувствовали себя на вражеской территории.
Впрочем, все это меркло перед той волной панического ужаса и патологической ненависти, которой встретила их позднее Германия. Пропагандистская машина Третьего рейха, задачей которой было убедить немцев в том, что лучше умереть, чем оказаться «в руках большевистских варваров», была запущена на полную мощность и, надо отдать ей должное, достигла большого успеха. Этой чудовищной по своему размаху и цинизму информационной кампанией дирижировал лично главный лжец нацистской империи – ее министр пропаганды Йозеф Геббельс, писавший о «степных подонках» и «зверино жестоких недочеловеках», идущих убивать и насиловать Германию. Да-да, миф о «множестве изнасилованных красноармейцами немках» запустил именно он, а те, кто его сегодня повторяют, являются прилежными учениками и последователями Геббельса.
В качестве одной из наиболее характерных «информационных спецопераций», организованной этим прожженным негодяем, можно привести события в деревне Неммельсдорф в Восточной Пруссии, которая на короткое время была оставлена Вермахтом, а затем отбита обратно. После отхода Красной Армии там были «случайно обнаружены» тела местных жительниц, «изнасилованных и убитых русскими». На место моментально прибыли высокие представители партийных и военных структур нацистов, а также журналисты. В кратчайшие сроки был снят «документальный» фильм об «ужасной трагедии», а гитлеровская «Фёлькишер Беобахтер» разразилась «обличающей» статьей «Ярость советских бестий». В наши дни события в Неммельсдорфе признаны срежиссированной нацистами фальшивкой, причем в качестве свидетелей неоднократно выступали солдаты Вермахта и даже СС, присутствовавшие на месте событий и опровергающие официальную версию.
Тем не менее, дело было сделано: наших солдат Германия встречала никак не цветами, а в самом лучшем случае совершенно опустевшими населенными пунктами. Хватало и другого – выстрелов в спину, летевших из кустов гранат, а то и отравленных еды и выпивки, специально оставленных на самом видном месте. При этом, стремясь породить в немцах «несгибаемый арийский дух» и волю к сопротивлению, Геббельс и компания изрядно перестарались: страну накрыла волна массовых самоубийств. Только в Берлине перед взятием его Красной Армией покончили с собой не менее 40 тысяч мирных жителей.
Красная Армия вошла в Европу как освободительница и таковой останется в веках. Сегодняшнее поразившее там кое-кого «беспамятство» говорит лишь о том, что прививавшиеся ее жителям в последние десятилетия новые «ценности» во многих из них не оставили ничего человеческого – ни совести, ни стыда, ни элементарной благодарности. Тем не менее, это все никоим образом не может ни умалить героизм советского народа в Великой Отечественной войне, ни оспорить его победу в ней.
Источник
День Победы. Где и как Вы его встретили?
Ветераны вспоминают, как встретили 9 мая 1945 года
Приблизительное время чтения: 12 мин.
Владимир Владимирович Тарновский , служил в артиллерийском полку, Рига:
Наши имена на Рейхстаге
Как я встретил 9 мая 1945 года? Очень просто: в Берлине и встретил. Мне было всего четырнадцать лет, и я служил в 370-м Берлинском артиллерийском полку.
На фронт я попал совсем мальчишкой: в середине войны немцы заняли мой родной город Славянск, забрали и расстреляли множество жителей, в том числе и мою маму, я остался совсем один. Поэтому, когда советские войска освободили Славянск, я с нашими солдатами подался на Запад. Поначалу взяли сыном полка, но скоро я стал настоящим артиллерийским разведчиком, участвовал в операциях, могу похвалиться настоящими боевыми наградами. Особенно горжусь медалью «За взятие Берлина».
Так вышло, что наш корпус брал самые главные объекты Берлина: здание гестапо и Имперскую канцелярию. Бои были, конечно, страшные, немцы отчаянно сопротивлялись. Город капитулировал 2 мая. Помню, что наши полевые кухни расположились у выходов из бомбоубежищ и метро, где прятались тысячи жителей Берлина. Солдаты начали раздавать немцам пищу. Люди, уставшие, изможденные и испуганные, выходили из укрытий и становились в очередь с мисками и горшочками. Некоторые брали еду даже в шапочки, так как ничего другого в разрушенном городе не смогли найти. Мне эта картина запала в душу. Много лет спустя я был в Германии в командировке и встречался с некоторыми из жителей Берлина, получавших еду от наших солдат в мае 1945-го. Они с благодарностью говорили: «Советские войска нас спасли».
К 9 мая наша часть расположилась на окраине Берлина. Помню, что был на втором этаже дома, когда услышал во дворе страшную стрельбу. Схватил автомат, бросился вниз! Смотрю и ничего не понимаю — солдаты палят в воздух. Что такое? Говорят: «Победа!» Пришлось и мне выпустить вверх полный рожок!
Ну а уже после капитуляции наши солдаты стали расписываться на стенах Рейхстага. Пошли и мы с однополчанами. Правда, колонны здания снизу были полностью покрыты надписями. Но мы с товарищем кое-как взобрались наверх и все-таки оставили на Рейхстаге свои имена!
Алла Дмитриевна Кириллова , блокадница, член Союзов писателей, Минск
Кусочки сахара и бесплатное кино
В День Победы я была в Семипалатинске, в Казахстане, куда нас эвакуировали из Ленинграда через Ладожское озеро вместе с другими детьми и их мамами. Я тогда должна была учиться в третьем классе.
По радио передали о том, что войны больше нет, и все, кто это услышал, стали бегать по улицам города и стучать в каждую дверь, заходить в каждый дом с этой вестью. Когда люди узнавали, они сами выскакивали на улицу и бросались, в свою очередь, разносить радостную новость. Кругом все кричали: «Победа!» Молниеносно распространился слух о том, что целый день в честь праздника в кинотеатре будут показывать кино для детей бесплатно. И всем детям, которые в большом количестве приходили в кинотеатр, руководители города давали по кусочку сахара.
Ликование было всеобщее, и даже спустя годы в этот день чувствовалось особенное торжество на лицах и радость: все люди становились друг другу близкими, обнимались, поздравляли друг друга. А когда видели военного, подходили к нему, дарили цветы и благодарили за Победу, за подвиг, за мир…
Феликс Сергеевич Махов , кандидат психологических наук, Санкт-Петербург
Мы с друзьями несли летчика на руках
Весть о Победе я встретил на Белорусском вокзале, оттуда, по улице Горького и до Манежной площади, мы с друзьями, сменяя друг друга, несли на руках летчика, героя с наградами на груди. А вечером всей компанией — парни, девушки — праздновали, потом вышли на улицу и дошли до самой Красной площади, где собрался, казалось, весь город. Такое было ликование вокруг, люди плакали и смеялись, обнимали друг друга.
Это было непередаваемое ощущение, удивительный день, который, конечно, никогда не повторился. Уже накануне — 8 мая — мы ждали вести о Победе, но предчувствие события ничуть не умалило нашей радости! Можете представить себе мое состояние — состояние мальчишки, подростка, который войну ощутил не только сознанием, но и всей кожей! Это был восторг, который со мной разделяли все вокруг.
В 14 лет я бежал на фронт из Башкирии, куда была эвакуирована наша семья, в том числе мои маленькие сестренка и братишка. Отец мой воевал, был ранен под Москвой. И конец войны я встретил семнадцатилетним юношей: весной 1945 года я учился в 5-ой московской артиллерийской спецшколе, после окончания которой — уже в Ленинграде — поступил в артиллерийское училище.
Евгения Панфиловна Базылева , вдова ветерана войны, жила в оккупации, Москва
Вестницы Победы
Война принесла в мою жизнь, как и в жизнь всего нашего народа, страшную трагедию. Когда я была девятилетней девочкой, мою деревню в Смоленской области оккупировали фашисты. На глазах расстреляли отца, тяжело ранили мать, которая его защищала. Двое братьев погибли в боях, третий был угнан в концлагерь. Наш дом сгорел, и мы кочевали по соседям. В войну очень не хватало продовольствия, выкапывали на окрестных полях гнилую картошку. Как ждали Победу — одному Богу известно.
В тот день никто из деревни не знал, что война кончилась: радио в домах в то время еще не было. И тут я увидела подругу, которая работала на почте, бегущую ко мне с криком: «Победа! Победа!» Что тут было! Обнявшись, мы плакали и смеялись одновременно. И тотчас побежали, человек восемь, по домам. Нам выходили навстречу, еще не веря в то, что мы говорим, а потом провожали со двора: кто с песнями, кто со слезами — те, у кого погибли почти все. Я очень плакала, вспоминала отца, брата. Но все равно была такая неописуемая радость! С трудом верилось, что нас больше не будут бомбить, что не придется сидеть в холодных землянках, что война закончилась и мы будем жить, как все.
9 мая, когда проходят празднества, я закрываю глаза и вижу лица родных и соседей, вижу нашу улицу, по которой я бегу и кричу: «Люди добрые, война закончилась!» Вот так получилось, что мы с подругой стали первыми в деревне, кто разнес весть о Победе.
Аркадий Моисеевич Бляхер , майор в отставке, Брест
От школьной парты до Берлина
Поскольку я закончил войну в Берлине, дыхание Победы донеслось до меня еще 2 мая. Впечатление осталось незабываемое. Было пасмурное утро. В воздухе носились слухи о сдаче немецкой столицы, даже чехлы начали надевать на орудия. Это были долгожданные минуты! И что еще было характерно для того дня — уйма военнопленных: огромные колонны одна за другой проходили перед нами. А из окон домов вывешивали в знак капитуляции белые простыни…
Наши солдаты откуда-то взяли аккордеоны, танцевали, пели… и плакали. А утром 3 мая мы с друзьями пошли расписаться на Рейхстаге.
Да, радость была. Но и боль не отпускала. За полчаса до взятия Берлина смертельно ранили старшего лейтенанта Ивана Хомутовича, командира батареи нашего полка. Ему было всего 22 года. Мы не знали, как помочь его семье, и отправили ему домой посылку и деньги, которые собирали все вместе. Но потом отец его прислал ответ: «Зачем мне все это? Верните мне Ваню». Иван Данилович Хомутович похоронен в берлинском Трептов-парке.
Эти дни до 9 мая запомнились и неожиданно вспыхнувшей «фотоэпидемией». Все хотели сфотографироваться, чтобы отправить снимки своим родным — подтвердить, что живы. У меня тоже был трофейный фотоаппарат, и мне удалось сделать несколько снимков. В том числе и разрушенного Рейхстага. В мой объектив попали и Бранденбургские ворота.
А вот сделать в свое время школьную выпускную фотографию так и не удалось: 21 июня 1941 года я получил аттестат зрелости, а наутро началась война. Дальше — артиллерийское училище в Сталинграде и направление на Донской фронт, а потом после краткосрочных курсов командиров батарей под Челябинском — Третий Украинский фронт, участие в Ясско-Кишиневской операции. После этого нашу дивизию передали Первому Белорусскому фронту. Там, вместе с боевыми товарищами, в звании капитана я и встретил Великую Победу.
Анна Андреевна Карпуненкова , младший лейтенант медицинской службы в отставке, вдова лейтенанта ВВС.
Мы считали минуты до Победы
Весной 1945 года меня уже восстановили во Львовском Медицинском Университете, жизнь налаживалась. После того, как наши прорвали окружение и был открыт второй Фронт, мы каждый день ожидали конца войны: проверяли сводки, прислушивались к выступлениям на радио — любая весточка была на вес золота. После водружения флага над Рейхстагом считали минуты до Победы. И дождались! Это было такое торжество! Люди выбегали на улицу, кто в чем, смеялись, танцевали, плакали от радости и от воспоминания о многочисленных потерях. В нашей семье без этого тоже не обошлось: погиб муж старшей сестры Маши, брат Ваня стал инвалидом после Севастополя.
Меня война застала в Киеве, я училась на втором курсе мединститута, жила в общежитии — в Киево-Печерской Лавре, в центре города. 22 июня в 3-4 часа утра нас разбудил гул самолетов, начались бомбежки, пожары, вспыхнула паника. И несколько часов неизвестности, приводившей в ужас: только в полдень Молотов объявил о начале войны.
Я устроилась в госпиталь в Краматорске, на Донбассе. Он был настолько перегружен, что некуда было класть новоприбывших! Первое время у нас не было даже бинтов: резали простыни и тряпки на полоски, после использования стирали, дезинфицировали, как могли, и снова скатывали в бинты…
Но когда наш дом разбомбили, мы переехали в другой конец города, и с госпиталем я простилась — ходить было не в чем. До конца войны проработала на заводе, в бюро чертежников танкостроения.
Елена Георгиевна Истомина , старший лейтенант медицинской службы в отставке, Москва
За день я поседела полностью
День победы я встретила в городе Оломоуце недалеко от Праги. Невозможно передать впечатление от этого великолепного, счастливейшего дня! У нас были чудесные друзья — чехи и словаки, и это была единая семья. Мы участвовали в освобождении Чехии, и нашу 70-ю гвардейскую дивизию встречали очень радушно: нас звали в гости, поили пивом, выкатывали целые бочки. И по сей день для меня это очень ценное, святое воспоминание.
Война для меня началась в 1941-м, когда я пошла фельдшером в дивизию, где служил мой муж. Он погиб в июне 1942 года, а нашего 9-летнего сына мне удалось отвезти к свекрови. Я прошла всю войну, от Воронежа до Праги, участвовала в Курской битве, в освобождении Правобережной Украины, Киева.
Самым ярким эпизодом для меня стала переправа через Дон в начале войны — тогда я за один день поседела полностью. Муж прибежал и сказал, что надо перевезти раненых через Дон, потому что наши войска отступают. Я поехала. В пути убило шофера, и мне пришлось сесть за руль, хотя я никогда не водила машину! Я добралась до переправы, а потом бегала и просила, чтобы кто-нибудь перевез машину по шаткому понтонному мосту. Какой-то офицер сел за руль, меня заставил снять сапоги, отстегнуть портупею, и я встала на подножку машины. Когда я сдала раненых, то побежала обратно к Дону, чтобы вернуться в свою часть, но переправа была закрыта — обратно не пускали. Весь Дон был переполнен отступающими войсками: кто на коне, кто на лодке, кто вплавь переправлялся, то и дело фашисты поливали переправу огнем.
По-настоящему я начала молиться именно в те дни, на берегу Дона. Я уже перестала сомневаться и ни одного дня более никогда не сомневалась, потому что прошла через столько тяжелых моментов. И помог мне только Господь.
Протоиерей Роман Косовский , Киев
Без споров о вере
В этот день я был в Чехословакии. Нам сообщили, что война кончилась. Столько радости было. Праздновали по всей части, но гулянок каких-то или салютов не устраивали — все-таки еще военное время было.
Вообще война стала для меня очень важным, и, пожалуй, поворотным моментом на пути к Церкви. Во время войны атеистов не было — смерти боялись все; не было таких людей, которые спорили бы о вере — все к Богу обращались. И со мной на фронте произошло несколько случаев, когда Бог спасал меня от неминуемой, казалось, смерти. Однажды мина разорвалась прямо возле нашего пулеметного расчета: один мой сослуживец погиб, двух других серьезно ранило, а я уцелел. Тогда я подумал: если меня Господь бережет — значит, для какой-то цели. Хотя еще немало времени прошло, прежде чем я в Церковь пришел. После войны еще долго служил в армии, а в семинарию поступил только через несколько лет после демобилизации.
Валентина Викторовна Штейн , служила врачом-психиатром во фронтовом госпитале, Калининград
Моей судьбы кардиограммы
В то время наш госпиталь находился в Инстербурге в Восточной Пруссии (ныне город Черняховск). Мы проснулись в 6 утра от стука в двери. Наш политрук ходил по коридорам госпиталя и протяжно кричал: «Доктора! Ура! Война закончилась!» Сколько было у всех ликования! Те, кто имел оружие, — стреляли в воздух. И медики пили впервые, кто сколько мог.
Первые два года войны я, врач общей практики, провела на передовой — в медсанбате. После выхода из окружения под Смоленском, когда в живых осталось несколько человек из восьмидесяти, оказалась в отдельном дорожном батальоне. К счастью, в штабе полка я, уставшая от назойливых ухаживаний мужского коллектива, встретила знакомого профессора психиатрии, и он пригласил работать в госпиталь, в психиатрическое отделение. Так я освоила новую для себя специальность. И уже с госпиталем — мы двигались вместе с линией фронта — дошла до Инстербурга.
Работа у нас была очень напряженной. К концу войны в армию забирали всех, невзирая на болезни. К нам шли потоки психических больных и контуженных.
Кстати, интересно отметить, что всплеска психических заболеваний в такое тяжелое для страны время не было. И депрессий наблюдалось гораздо меньше, чем сегодня. Тогда люди находились в таком сверхнапряжении, что даже гриппом не болели! А сейчас сплошные неврозы. Войны нет, а содержание психозов — мании преследования, убийств.
Из Восточной Пруссии летом 1945 года меня направили на Дальний Восток. Японцы встречали нас уже с белыми флагами. Но радость Победы была с привкусом горечи утраты: война забрала у меня родителей и супруга. Отца и мать как евреев сожгли в газовых печах в Харькове, а муж не вернулся с задания на Дальнем Востоке.
Я одна воспитала дочь. И спасала меня всю жизнь моя любимая работа. А еще собственное творчество: «Моей судьбы кардиограммы — / Неугомонный сердца след. / Он странно пишется стихами, / Хотя я врач, а не поэт».
Материал подготовили: Валерия Посашко, Юлия Шабанова, Мария Бекетова, Маргита Шпранцмане, Марина Лазарчук, Татьяна Сивакова, Лиза Киктенко, Влад Головин, Ольга Карпуненкова.
Фото Татьяны Страховой, Татьяны Сиваковой, из архива автора, Юлии Шабановой, Елены Нагорных
В жизни действительно сплошь и рядом встречаются чудеса!
Кандидатов для этого опроса мы выбирали совершенно произвольно, из разных городов и даже стран — России, Беларуси, Украины, Латвии. И каково же было наше удивление, когда один из них — Аркадий Бляхер из Бреста — позвонил и рассказал, что обнаружил на страницах журнала рядом со своим ответом — ответ своего однополчанина, которого долго искал и уже не чаял когда-нибудь встретить. Это Владимир Тарновский , живущий теперь в Риге. Они вместе дошли до Берлина и вместе встретили Победу!
Таким невероятным образом сослуживцы, не видевшиеся целую вечность, нашли друг друга и смогли созвониться.
Источник