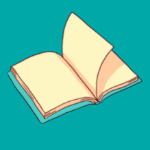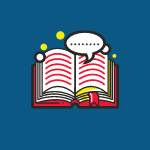Проблема обретения человеком чувства Родины
Сочинение по тексту:
В данном тексте известный русский писатель К.Г. Паустовский поднимает проблему обретения человеком чувства Родины. На примере своего героя – художника Берга – он показывает, что чувство Родины в человеке может зреть годами, нужен толчок, чтобы понять не только разумом, но и сердцем свою неразрывную связь с родным краем. Художник Берг, ранее всегда иронически усмехавшийся при слове «родина», не замечавший природы и не понимавший ее, по словам автора, по приглашению друга едет в муромские леса и там для себя открывает новое «странное чувство» – «радостное чувство родины»: «этот лесной и торжественный край, полный безымянных озёр, непролазных зарослей, сухой листвы, мерного гула сосен и воздуха, пахнущего смолой и сырыми болотными мхами». Именно поэтому по возвращении домой на выставку художественных работ он отправляет свой «первый пейзаж», запечатлевший все то, «что дрожало где-то на сердце».
Автор очень подробно описывает новое эмоциональное состояние своего героя, его «пробуждение»: через эволюцию персонажа легко проследить авторское отношение к поднятой проблеме. Только через неразрывную связь с родной землей возможен и творческий процесс как таковой: скепсис и пренебрежение своими корнями лишает человека одухотворенности. Именно поэтому вынесенный в начало текста авторский приговор, повторяющий в какой-то степени оценку сослуживцев («Эх, Берг, сухарная душа!») очевиден: «Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи». Чтобы показать эволюцию чувств Берга, их силу и глубину, писатель использует пространные ряды однородных членов («Берг хотел всю силу красок, всё умение своих рук, всё то, что дрожало где-то на сердце, отдать этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле изобразить великолепие этих лесов, умирающих величаво и просто»). В ярких, красочных, живых описаниях природы муромских лесов отчетливо видно восхищение автора родной землей. К.Г. Паустовский – признанный мастер пейзажных описаний. «Передать красоту родной природы автору помогают метафоры («тени ветвей дрожали», «сияла синева») и эпитеты («лимонному полю», «хрупкие лишаи»).
Я разделяю позицию автора, так как считаю, что чувство Родины, родной земле дается нам с самого рождения. Родину, как и родителей, не выбирают. Она – малая и большая – та основа, те корни, что питают нас с самого детства. Осознание этого факта, возможно, приходит не всем и не сразу, но именно это чувство делает нашу «жизнь тёплой, весёлой и во сто крат более прекрасной, чем раньше».
Тема Родины, родной земли – одна из важных тем в творчестве любого художника (и кисти, и слова).
Тема Родины — одна из главных в творчестве И.А. Бунина, вынужденного в свое время покинуть Россию и особенно остро переживающего эту утрату в своем творчестве. Рассказ «Антоновские яблоки» — одно из самых поэтических произведений в его творчестве. Вкус и запах антоновских яблок становится для героя (и самого автора тоже) символом Родины, без кровной связи с которой человеческая жизнь теряет смысл.
В повести В.Распутина «Прощание с Матерой» автор рассказывает о маленькой деревне на берегу сибирской реки, что должна быть затоплена в связи со строительством гидроэлектростанции. Старики и старухи, оставшиеся в деревне (молодежь уехала в город), трепетно и бережно относятся к прошлому, что хранят эти места. Иными словами, защищают свой родной уголок от затопления те, кто истинно любит родную землю, чужаки (молодежь, уехавшая в город, власти и пр.) готовы надругаться над могилами старого кладбища, жечь дома, чтобы поскорее выселить стариков из них…
Таким образом, чувство родной земли в человеке сродни стержню, что включает его жизнь в контекст самых разных духовно-нравственных опор – семью, народ, нацию, государство. Принадлежность к родной земле, чувство родной земли делает жизнь человека осмысленной и прекрасной.
Текст К. Г. Паустовского
(1)Когда при Берге произносили слово «родина», он усмехался. (2)Не замечал красоты природы вокруг, не понимал, когда бойцы говорили:
«(3)Вот отобьём родную землю и напоим коней из родной реки».
– (4)Трепотня! – мрачно говорил Берг. – (5)У таких, как мы, нет и не
может быть родины.
– (6)Эх, Берг, сухарная душа! – с тяжёлым укором отвечали бойцы. –
(7)Ты землю не любишь, чудак. (8)А ещё художник!
(9)Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи.
(10)Через несколько лет ранней осенью Берг отправился в муромские
леса, на озеро, где проводил лето его друг художник Ярцев, и прожил там
около месяца. (11)Он не собирался работать и не взял с собой масляных
красок, а привёз только маленькую коробку с акварелью.
(12)Целые дни он лежал на ещё зелёных полянах и рассматривал цветы
и травы, собирал ярко-красные ягоды шиповника и пахучий можжевельник,
длинную хвою, листья осин, где по лимонному полю были разбросаны
чёрные и синие пятна, хрупкие лишаи нежного пепельного оттенка и
вянущую гвоздику. (13)Он тщательно разглядывал осенние листья с изнанки,
где желтизна была чуть тронута свинцовой изморозью.
(14)На закатах журавлиные стаи с курлыканьем летели над озером на
юг, и Ваня Зотов, сын лесника, каждый раз говорил Бергу:
– (15)Кажись, кидают нас птицы, летят к тёплым морям.
(16)Берг впервые почувствовал глупую обиду: журавли показались ему
предателями. (17)Они бросали без сожаления этот лесной и торжественный
край, полный безымянных озёр, непролазных зарослей, сухой листвы,
мерного гула сосен и воздуха, пахнущего смолой и сырыми болотными
мхами.
(18)Как-то Берг проснулся со странным чувством. (19)Лёгкие тени
ветвей дрожали на чистом полу, а за дверью сияла тихая синева. (20)Слово
«сияние» Берг встречал только в книгах поэтов, считал его выспренним и
лишённым ясного смысла. (21)Но теперь он понял, как точно это слово
передаёт тот особый свет, какой исходит от сентябрьского неба и солнца.
(22)Берг взял краски, бумагу и, не напившись даже чаю, пошёл на озеро.
(23)Ваня перевёз его на дальний берег.
(24)Берг торопился. (25)Берг хотел всю силу красок, всё умение своих
рук, всё то, что дрожало где-то на сердце, отдать этой бумаге, чтобы хоть
в сотой доле изобразить великолепие этих лесов, умирающих величаво и
просто. (26)Берг работал как одержимый, пел и кричал.
…(27)Через два месяца в дом Берга принесли извещение о выставке,
в которой тот должен был участвовать: просили сообщить, сколько своих
работ художник выставит на этот раз. (28)Берг сел к столу и быстро написал:
«Выставляю только один этюд акварелью, сделанный этим летом, – мой
первый пейзаж».
(29)Спустя время Берг сидел и думал. (30)Он хотел проследить, какими
неуловимыми путями появилось у него ясное и радостное чувство родины.
(31)Оно зрело неделями, годами, десятилетиями, но последний толчок дал
лесной край, осень, крики журавлей и Ваня Зотов.
– (32)Эх, Берг, сухарная душа! – вспомнил он слова бойцов.
(33)Бойцы тогда были правы. (34)Берг знал, что теперь он связан со
своей страной не только разумом, но и всем сердцем, как художник, и что
любовь к родине сделала его умную, но сухую жизнь тёплой, весёлой и во
сто крат более прекрасной, чем раньше.
(по К.Г. Паустовскому)
Источник
Паустовский чувство своей страны
Далекие годы (Книга о жизни)
Книга о жизни. Далекие годы
Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Манна и в одной из его статей о писательском труде прочел такие слова:
«Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное. Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве».
Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг.
Писатель, выражая себя, тем самым выражает и свою эпоху. Это — простой и неопровержимый закон.
В книге помещено шесть автобиографических повестей:
«Далекие годы», «Беспокойная юность», «Начало неведомого века», «Время больших ожиданий», «Бросок на юг» и «Книга скитаний». Все они связаны общим героем и общностью времени. Повести эти относятся к последним годам XIX века и к первым десятилетиям века нынешнего.
Для всех книг, в особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило — их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду.
По существу творчество каждого писателя есть вместе с тем и его автобиография, в той или иной мере преображенная воображением. Так бывает почти всегда.
Итак, написано шесть автобиографических книг. Впереди я вижу еще несколько книг такого же рода, но удастся ли их написать — неизвестно.
Я хочу закончить это маленькое введение одной мыслью, которая давно не дает мне покоя.
Кроме подлинной своей биографии, где все послушно действительности, я хочу написать и вторую свою автобиографию, которую можно назвать вымышленной. В этой вымышленной автобиографии я бы изобразил свою жизнь среди тех удивительных событий и людей, о которых я постоянно и безуспешно мечтал.
Но независимо от того, что мне удастся написать в будущем, я бы хотел сейчас, чтобы читатели этих шести повестей испытали бы то же чувство, которое владело мной на протяжении всех прожитых лет,- чувство значительности нашего человеческого существования и глубокого очарования жизни.
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Я был гимназистом последнего класса киевской гимназии, когда пришла телеграмма, что в усадьбе Городище, около Белой Церкви, умирает мой отец.
На следующий день я приехал в Белую Церковь и остановился у старинного приятеля отца, начальника почтовой конторы Феоктистова. Это был длиннобородый близорукий старик в толстых очках, в потертой тужурке почтового ведомства со скрещенными медными рожками и молниями на петлицах.
Кончался март. Моросил дождь. Голые тополя стояли в тумане.
Феоктистов рассказал мне, что ночью прошел лед на бурной реке Рось. Усадьба, где умирал отец, стояла на острове среди этой реки, в двадцати верстах от Белой Церкви. В усадьбу вела через реку каменная плотина гребля.
Полая вода идет сейчас через греблю валом, и никто, конечно, не согласится переправить меня на остров, даже самый отчаянный балагула извозчик.
Феоктистов долго соображал, кто же из белоцерковских извозчиков самый отчаянный. В полутемной гостиной дочь Феоктистова, гимназистка Зина, старательно играла на рояле. От музыки дрожали листья фикусов. Я смотрел на бледный, выжатый ломтик лимона на блюдечке и молчал.
— Ну что ж, позовем Брегмана, отпетого старика,- решил наконец Феоктистов.- Ему сам черт не брат.
Вскоре в кабинет Феоктистова, заваленный томами «Нивы» в тисненных золотом переплетах, вошел извозчик Брегман — «самый отпетый старик» в Белой Церкви. Это был плотный карлик-еврей с редкой бородкой и голубыми кошачьими глазами. Обветренные его щечки краснели, как райские яблоки. Он вертел в руке маленький кнут и насмешливо слушал Феоктистова.
— Ой, несчастье! — сказал он наконец фальцетом.- Ой, беда, пане Феоктистов! У меня файтон легкий, а кони слабые. Цыганские кони! Они не перетянут нас через греблю. Утопятся и кони, и файтон, и молодой человек, и старый балагула. И никто даже не напечатает про эту смерть в «Киевской мысли». Вот что мне невыносимо, пане Феоктистов. А поехать, конечно, можно. Отчего не поехать? Вы же сами знаете, что жизнь балагулы стоит всего три карбованца,- я не побожусь, что пять или, положим, десять.
— Спасибо, Брегман,- сказал Феоктистов.- Я знал, что вы согласитесь. Вы же самый храбрый человек в Белой Церкви. За это я вам выпишу «Ниву» до конца года.
— Ну, уж если я такой храбрый,- пропищал, усмехаясь, Брегман,- так вы мне лучше выпишите «Русский инвалид». Там я по крайности почитаю про кантонистов и георгиевских кавалеров. Через час кони будут у крыльца, пане.
В телеграмме, полученной мною в Киеве, была странная фраза: «Привези из Белой Церкви священника или Ксендза — все равно кого, лишь бы согласился ехать».
Я знал отца, и потому эта фраза тревожила меня и смущала. Отец был атеист. У него происходили вечные столкновения из-за насмешек над ксендзами и священниками с моей бабкой, полькой, фанатичной, как почти все польские женщины.
Я догадался, что на приезде священника настояла сестра моего отца, Феодосия Максимовна, или, как все ее звали, тетушка Дозя.
Она отрицала все церковные обряды, кроме отпущения грехов. Библию ей заменял спрятанный в окованном сундуке «Кобзарь» Шевченко, такой же пожелтевший и закапанный воском, как библия. Тетушка Дозя доставала его изредка по ночам, читала при свече «Катерину» и поминутно вытирала темным платком глаза.
Она оплакивала судьбу Катерины, похожую на свою собственную. В сырой роще-леваде за хатой зеленела могила ее сына, «малесенького хлопчика», умершего много лет назад, когда тетушка Дозя была еще совсем молодой. Этот хлопчик был, как тогда говорили, «незаконным» ее сыном.
Любимый человек обманул тетушку Дозю. Он бросил ее, но она была ему верна до смерти и все ждала, что он возвратится к ней, почему-то непременно больной, нищий, обиженный жизнью, и она, отругав его как следует, приютит наконец и пригреет.
Источник
РУСТЬЮТОРС
Реальный текст ЕГЭ по русскому языку 2021. К.Г. Паустовский «Базарный Сызган. «
Реальный текст ЕГЭ по русскому языку 2021. К.Г. Паустовский
Базарный Сызган. Я запомнил эту станцию из-за одного пустого случая. Мы простояли на запасных путях в Сызгане всю ночь. Была вьюга. К утру поезд сплошь залепило снегом. Я пошел со своим соседом по вагону, добродушным увальнем Николашей Рудневым, студентом Петровской сельскохозяйственной академии, в вокзальный буфет купить баранок.
Как всегда после вьюги, воздух был пронзительно чист и крепок. В буфете было пусто. Пожелтевшие от холода цветы гортензии стояли на длинном столе, покрытом клеенкой. Около двери висел плакат, изображавший горного козла на снеговых вершинах Кавказа. Под козлом было написано: «Пейте коньяк Сараджева». Пахло горелым луком и кофе.
Курносая девушка в фартуке поверх кацавейки сидела, пригорюнившись, за столиком и смотрела на мальчика с землистым лицом. Шея у мальчика была длинная, прозрачная и истертая до крови воротом армяка. Редкие льняные волосы падали на лоб.
Мальчик, поджав под стол ноги в оттаявших опорках, пил чай из глиняной кружки. Он отламывал от ломтя ржаного хлеба большие куски, потом собирал со стола крошки и высыпал их себе в рот.
Мы купили баранок, сели к столику и заказали чай. За дощатой перегородкой булькал закипавший самовар.
Курносая девушка принесла нам чай с вялыми ломтиками лимона, кивнула на мальчика в армяке и сказала:
– Я его всегда кормлю. От себя, а не от буфета. Он милостыней питается. По поездам, по вагонам.
Мальчик выпил чай, перевернул кружку, встал, перекрестился на рекламу сараджевского коньяка, неестественно вытянулся и, глядя остановившимися глазами за широкое вокзальное окно, запел. Пел он, очевидно, чтобы отблагодарить сердобольную девушку. Пел высоким, скорбным голосом, и в ту пору песня этого мальчика показалась мне лучшим выражением сирой деревенской России. Из слов его песни я запомнил очень немного.
. Схоронил ее
во сыром бору,
во сыром бору
под колодою,
под колодою,
под дубовою.
Я невольно перевел взгляд туда, куда смотрел мальчик. Снеговая дорога сбегала в овраг между заиндевелыми кустами орешника. За оврагом, за соломенными крышами овинов вился струйками к серенькому, застенчивому небу дым из печей. Тоска была в глазах у мальчика – тоска по такой вот косой избе, которой у него нет, по широким лавкам вдоль стен, по треснувшему и склеенному бумагой окошку, по запаху горячего ржаного хлеба с пригоревшими к донцу угольками.
Я подумал: как мало в конце концов нужно человеку для счастья, когда счастья нет, и как много нужно, как только оно появляется.
С тех пор я помногу живал в деревенских избах и полюбил их за тусклый блеск бревенчатых стен, запах золы и за их суровость. Она была сродни таким знакомым вещам, как ключевая вода, лукошко из лыка или невзрачные цветы картошки.
Без чувства своей страны – особенной, очень дорогой и милой в каждой ее мелочи – нет настоящего человеческого характера. Это чувство бескорыстно и наполняет нас великим интересом ко всему. Александр Блок написал в давние тяжелые годы:
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!
Блок был прав, конечно. Особенно в своем сравнении. Потому что нет ничего человечнее слез от любви, нет ничего, что бы так сильно и сладко разрывало сердце. И нет ничего омерзительнее, чем равнодушие человека к своей стране, ее прошлому, настоящему и будущему, к ее языку, быту, к ее лесам и полям, к ее селениям и людям, будь они гении или деревенские сапожники.
В те годы, во время службы моей на санитарном поезде, я впервые ощутил себя русским до последней прожилки. Я как бы растворился в народном разливе, среди солдат, рабочих, крестьян, мастеровых. От этого было очень уверенно на душе. Даже война не бросала никакой тревожной тени на эту уверенность. «Велик Бог земли русской, – любил говорить Николаша Руднев. – Велик гений русского народа! Никто не сможет согнуть нас в бараний рог. Будущее – за нами!»
Я соглашался с Рудневым. В те годы Россия предстала передо мной только в облике солдат, крестьян, деревень с их скудными достатками и щедрым горем. Впервые я увидел многие русские города и фабричные посады, и все они слились своими общими чертами в моем сознании и оставили после себя любовь к тому типичному, чем они были наполнены.
Пример сочинения ЕГЭ 2021 по реальному тексту К. Г. Паустовского : «Как человек должен относиться к Родине»
Примерный круг проблем:
1. Почему в тяжелые времена у человека обостряется любовь к родной земле?
2. Какую роль играет Родина/дом в жизни человека?
3. Как человек должен относиться к Родине?
4. Что составляет главное счастье в жизни человека?
5. Что означает/включает в себя «чувство родной страны»?
6. Как формируется любовь к родному краю?
Источник