Новый роман Алисы Ганиевой
Алиса Ганиева. Оскорблённые чувства. Роман. Москва. Издательство АСТ. Редакция Елены Шубиной. 2018. (Серия «Роман поколения».) 320 с. 2500 экз.
Алиса Ганиева – молодая и всё же отнюдь не начинающая писательница, осваивающая новые художественные пространства. «Оскорблённые чувства» написаны не только о современной российской провинции, а обо всех нас. Ни полудетективный сюжет, ни острая сатира содержания не исчерпывают. Мы едва ли узнаем себя в конкретных персонажах (хотя и встречались «вживую» с некоторыми из них, и редко эти встречи бывали приятными). А вот бытовые реалии, психологические коллизии и маячащие за ними больные вопросы всем нам знакомы.
Крупным планом — фигуры чиновников, бизнесменов, следователей. Здесь же рядом – не только офисные клерки, но и учителя, и пенсионеры… Не стану подробно пересказывать сюжет, — довольно сказать, что он вас «не отпустит»; его детективные и романические «жилы» вытягивают огромное социальное полотно.
Роман в России – больше, чем роман. Так повелось со времён Пушкина и Бенкендорфа. Внешняя причина такого обстоятельства («осадное положение» российской печати) уж точно никуда не исчезла. А внутренние его пружины сложно взаимодействуют со стареющим каноном жанра. Система же норовит выкосить всё неожиданное, поставить создание «художки» на конвейер, подчинив жёсткому идеологическому заказу. Опора на спрос (напористо формируемый предложением) остаётся лишь демагогической уловкой.
Сражаться с конвейером – дело непростое. Едва не более трудное, чем написать действительно хороший роман.
«Оскорблённые чувства» как раз из тех книг, которых остро не хватало. Например, для того, чтобы перекинуть мостик через пропасть между идеалами классики и ядовито-ярким маревом, бьющим отовсюду в наши сегодняшние глаза. Современные авторы марево это часто пишут либо слащаво-приукрашенно, либо в облаке беспорядочной и неосмысленной ненависти.
Заглавие книги очень точно (перед нами встают люди, по-разному уязвлённые окружающей реальностью, мнимо – или подлинно, даже изъязлённые до душевных струпьев). И в то же время таит в себе потенциал жесточайшей иронии: обыденное сознание с невысказанной и туповатой уверенностью ждёт от писательницы – девушки из Дагестана! – непременного описания мелодраматических страстей, жгучей любви и страшной мести в духе иных телесериалов. Что ж, в романе Алисы Ганиевой налицо и страсти, и безжалостная месть (орудиями которой, как некогда прежде у нас, оказываются доносы). А вот встречается ли в нём любовь? Или что-то, что можно назвать хоть влюблённостью. Наверное, всё-таки да. Но это «что-то» глубоко спрятано в подростковых воспоминаниях секретарши Леночки, и, выплыв в конце книги (с.301-304), тут же оказывается поруганным окружающими.
Наивное, но небезосновательное представление о жанре романа предполагает обязательность любовной интриги. В книге Ганиевой романическая интрига есть, и даже не одна. А вот любви – почти нет: она до того запачкана и захватана, что превращается в простую маску экономических, физиологических и даже полицейско-сыскных процессов. «Любовь» как сделка давно и хорошо известна в жизни и литературе. А вот от описания поцелуя-укуса, не отделённого никакими интермедиями от смачного пережёвывания еды (с.156), да ещё сопровождаемого милой беседой о способах пыток, берёт неслыханная ещё оторопь. Этот эпизод словно предвещает перипетии последней главы, где сцена любовных ласк внезапно трансформируется в сцену допроса. Такая метаморфоза не порождает даже синтаксических нестыковок: «Я хочу тебя (…) Я хочу тебя призвать к ответу (…)» (с.305). В самой сцене, гротескной до предела, вызывающе отсутствует какое-либо бытовое неправдоподобие. Тут можно видеть подлинное художественное открытие писательницы. А близость соседствующих словесных конструкций заставляет вновь тяжко задуматься об уродстве нашей действительности.
Детективная линия сюжета крепко держит читательское внимание, но основную смысловую нагрузку несёт не она. Обстоятельства внезапной смерти областного министра Лямзина, наступающей в начале романа, получают надлежащее разъяснение в последней главе. Однако это разъяснение (часть которого читающие получают раньше, чем следователи) не становится последней точкой в книге. Традиционная развязка детектива предполагает моральное удовлетворение читающих: зло настигает кара. Здесь же развязка лишь обнажает саркастическую авторскую насмешку, заставляя нас в растерянности размышлять: кто здесь больший преступник и в чём кара…
Между преступлением и «правосудием» в безумном «заоконном» мире почти не остаётся разницы. Всё же по стремительному развитию действия, обрывающемуся на последних страницах, можно заподозрить: неисповедимыми путями наказание виновных настигнет. Не рукой провидения, а силой социального детерминизма.
Всё в этом мире, включая элементы его комфорта, уже стоит на насилии и смерти. Как покрывало из альпаки в спальне министерской жены: «когда-то эта мягкая шерсть росла на живом животном, и бродило оно по Андам, щипало горную травку, чмокало раздвоенной губой, играло ушками. Животное погибло, чтобы белая шерсть его легла на ложе Эллы Сергеевны» (с. 175). Мир коррупционеров, финансовых воротил и их прихлебателей неприметно пропах смертью, и она приходит к его обитателям. Притчей и пророчеством звучит история, рассказанная за рулём Николаем неведомому покуда его пассажиру: «муравьи, они, это, общаются по запаху (…) И вот если один муравей умрёт, (…) вся остальная братва с ним неделю балакает, прикиньте. Пока биохимия не выветрится. Думают, что живой» (с. 10-11). Неуловимый дух тлена и разложения преследует и тех баловней недолгого успеха, которые «дойдут» живыми до последней страницы.
Несомненный признак подлинной литературы – многомерность персонажей. И в «Оскорблённых чувствах» нет (либо почти нет) положительных и отрицательных действующих лиц. Как ни неприглядны социальные роли героев и героинь, их всё-таки безумно жалко. Все они ранены – страшным детством, одиночеством или подступающей безрадостной старостью. Почти все они ранят других – то бездумно, то с наслаждением.
Внутри романа обнаруживаются пестрота и многозвучие самых неожиданных микрожанров. Тут и анекдот, порой переходящий в историю-«страшилку», и бытовой рассказ, от соседней «страшилки» трудноотличимый (с. 223-227), и даже оригинальнейшее граффити («Россия для грустных!»)
Хорошо умея держать читательский интерес, Ганиева в то же время достаточно вольно компонует повествование. Так, персонажи первой главы вообще быстро из него выбывают, «обеспечив» загадками «новопришедших» действующих лиц. К сюжету довольно свободно припаиваются боковые линии (история домработницы Тани). Развитие его зачастую прерывается воспоминаниями героев и героинь, и эти разбросанные по тексту фрагменты экспозиции выстраиваются в обширную временнУю перспективу. Новый роман Ганиевой злободневен до предела. Темы преследований за «фальсификацию истории» и за репосты в инете, поиска силовиками тайных анархистских «сетей», обороны городских парков от властей и крупного бизнеса – все они отсылают нас практически к текущим новостным сводкам. Но эта злободневность отнюдь не вырвана из контекста причин и следствий, хотя и не везде их цепочка очевидна.
Современная Россия изображена в «Оскорблённых чувствах» не просто реалистически, а беспощадно-правдиво. И всё же один из образов романа вызывает недоуменные вопросы. Это – полусамозванный священник Пётр Ильюшенко, пользующийся благоволением бизнесменки Марины Семёновой, сладкоежка и сибарит, сторонник экуменических идей.
Спору нет, нынешняя российская действительность подбрасывает множество материала для антиклерикальной сатиры. Но, хотя (по слову поэта) «Ходить бывает склизко по камушкам иным», и все мы разумеем связанные с этим трудности, — всё же остаётся неясным, почему основной мишенью оказывается представитель экуменизма. Сторонники воссоединения церквей никогда не принадлежали к отечественному православному «мэйнстриму», а и самих их – раз-два и обчёлся. Если экуменисты никогда не стремились специально к конфликту с властью, то и не кормились с её руки, а подчас имели проблемы с властями из-за своих социально-благотворительных инициатив. Крупнейший в нашей стране экуменический автор и проповедник, священник Александр Мень, был убит в 1990 году. Многое осталось неясным в этом преступлении, открывшем вереницу громких и тёмных убийств последующих десятилетий. Не видно, чтобы официальная церковь особенно часто вспоминала и о самом Мене, и об убийстве, и о его расследовании.
Не мне, далёкому от любых церквей, завлекать литературу в совершенно излишние историко-догматические дебри. Всё-таки на описанном фоне фигура Петра Ильюшенко вызывает недоумение. Но в том и парадоксальная особенность настоящего творчества, что даже авторские промахи придают ему дополнительную выразительность – как нешуточно выразителен, например, Степан Трофимович Верховенский у Достоевского (бесконечно далёкий от своего прототипа). Ильюшенко, в сущности, единственный в окружающей его среде не только начитанный, но и размышляющий герой, притом искренне пытающийся понять других.
Именно ему доводится произнести мимоходом очень важную фразу, дающую новое освещение всему происходящему – может быть, даже неожиданно для авторки. Преодолевая раздражение Семёновой, Ильюшенко выспрашивает, зачем ей было участвовать в коррупционных схемах, коли она и без того была богата: «Ты ведь не чувствуешь никакой вины, скажем, за то, что у тебя есть коттедж в три этажа, а у профессора философии – двушка в хрущёвке и одна морковка в холодильнике. Вон ты даже не доучилась, а шикуешь при этом» (с. 56). Итак, внимание. В антикоррупционной риторике состязаются власть и оппозиция. Коррупцией наполнена наша жизнь, свежие газеты и страницы романа Ганиевой. Сколь соблазнительно было бы увидеть в уничтожении этого столь очевидного зла рецепт всеобщего устроения. Но зло-то это оказывается вполне побочным, оно – лишь следствие тотального и кричащего неравенства, для которого не существенны ни знания, ни способности, ни реальная внутренняя производительность личности. Я вовсе не уверен, что сама писательница согласится с этим моим суждением. Но – на то и литература, чтобы ставить серьёзные вопросы и катализировать наше мышление – а не транслировать удобные ответы…
Ещё одно: искромётно-краткое явление гомосексуальной темы я сочту необдуманным. Не само по себе – а потому, что оно слишком легко укладывается в рамки ходячего стереотипа, относящего гомосексуальность к атрибутам пресыщенной элиты. Угнетённое большинство ЛГБТ остаётся при этом вне поля зрения и внимания.
Мыслимо ли в нынешней культурной ситуации продолжать дело критического реализма, завещанное русской классикой? Думается, новый роман Алисы Ганиевой во всяком случае сам является положительным ответом на этот вопрос. Бесспорно, в «Оскорблённых чувствах» присутствует и кафкианский элемент. Но он подсказан окружающей жизнью, стремительно превращающей былой гротеск в обыденность.
Роман богат яркими предметными рядами и наполнен динамичным действием – словом, он просто-таки просится на экран. Задумавшись об этом, сразу вспоминаешь, у кого в кармане находится по большей части наш кинематограф и кинопрокат. Тогда остаётся либо тихо и печально вздохнуть, либо поспешить действовать – чтобы изменить не одну лишь эту ситуацию, но всю жизнь в нашей стране и в мире. Книга Алисы Ганиевой не указывает (или почти не указывает) путей к такому изменению. Непонятно даже, кто будет его производить. Журналист Катушкин? Но в итоге он оказывается сломленным физически и морально, и язык не повернётся осудить его… Учитель Сопахин, правдоруб и вегетарианец? Но он скромник и недотёпа, плохо разбирающийся в людях… Нищий художник, явившийся обличителем на выставку сервильного портретиста Погодина? Но его экспрессивности хватит лишь на один прыжок – пока не схватят и не уведут… Борцы за сохранение городского парка? Может быть: они хотя бы не одиночки. Но их мы, в сущности, почти не видим, только слышим из-за чужих спин…
А всё же, дочитав до точки и закрыв последнюю страницу – с новой остротой понимаешь (вопреки мнимо-отстранённому, горько-ироничному авторскому тону в финале): жить так или мириться с подобной жизнью долее невозможно.
Источник
Спорная книга: Алиса Ганиева, «Оскорблённые чувства»
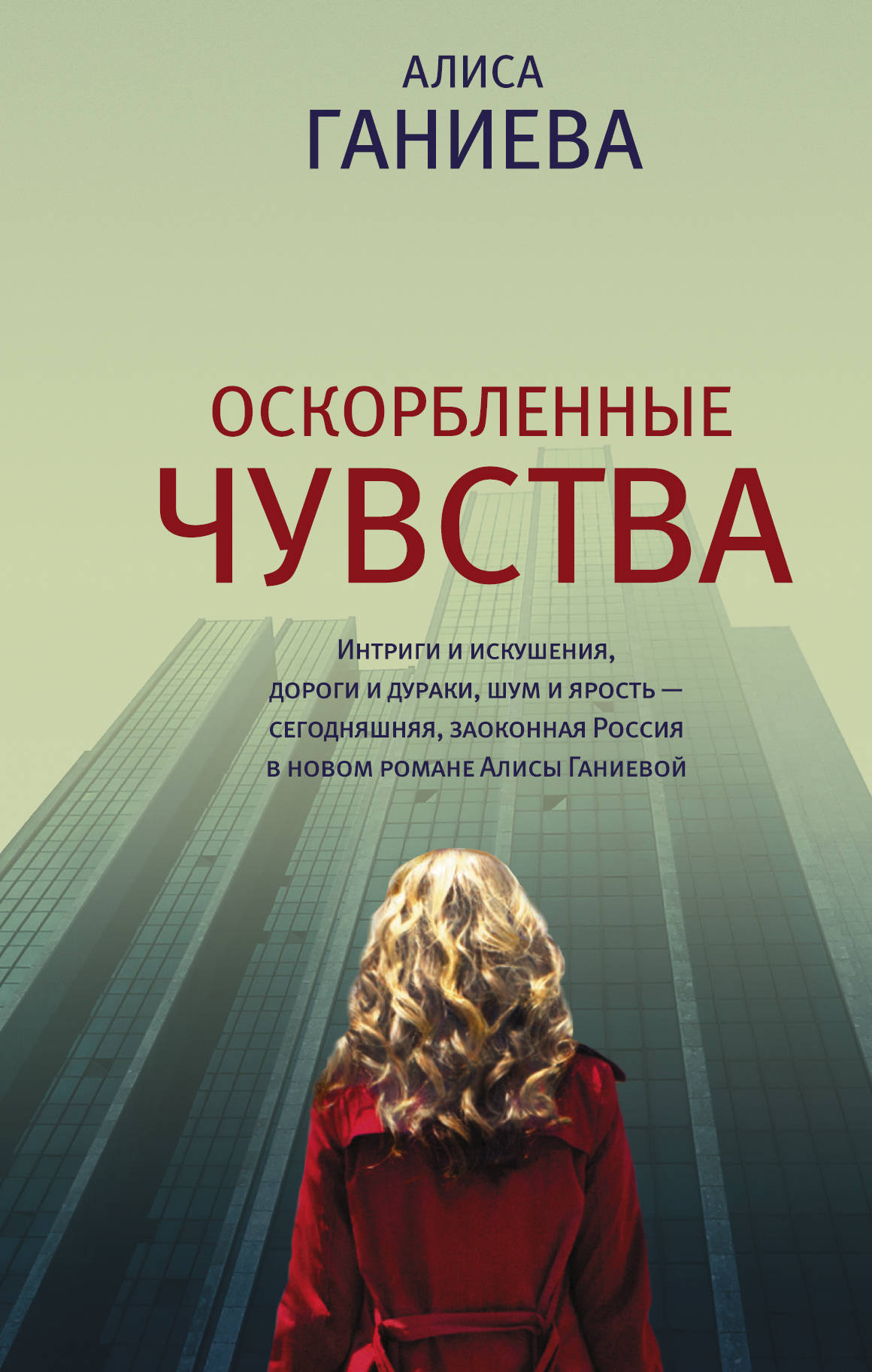
М: АСТ. Редакция Елены Шубиной, 2018
Михаил Визель в традиционном обзоре «5 книг недели. Выбор шеф-редактора» («Год литературы») отмечает, что «Оскорбленные чувства» первый роман писательницы, действие которого разворачивается за пределами Северного Кавказа: «Алиса Ганиева появилась в русской литературе лет десять назад под вывеской “молодой дагестанский писатель”. В этом качестве ее полюбили и литературные обозреватели, и службы протокола, охотно усаживающие жгучую восточную красавицу одесную первых лиц, подчёркивая тем самым многонациональность современной русской литературы. Сейчас Алиса, разумеется, по-прежнему прекрасна, и она свободно сочетает беседы с первыми лицами с участием в оппозиционных акциях, включая одиночные пикеты, да и восточность из нее за годы жительства в Москве повыветрилась. Что и зафиксировал этот роман — первый для Алисы Ганиевой, действие которого разворачивается не в Махачкале и окрестностях, а в совершенно гоголевском среднерусском городке, из которого “хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь”.
Реминисценция из “Ревизора” не случайна: как и классическая комедия, роман едко высмеивает нравы уездной “элиты”, связанной между собой не только служебными, но и коммерческими, и, разумеется, интимными узами. И тоже притворяется не тем, чем является: пьеса Гоголя — “комедией положений” (автор с самого начала снимает интригу, объявляя, что никакой Хлестаков не ревизор), а роман Ганиевой — детективом: в городе неожиданно происходит целая череда загадочных смертей — но детективная интрига снимается одномоментно, одной сценой. А вот подробное описание “коррупционных схем”, злоупотребления чиновничьей властью и, главное, способов борьбы с нею — остается. Роман кажется порой дидактическим “учебником оппозиционера”, а его вороватые и блудливые фельетонные герои, прямо скажем, далеки по насыщенности и запоминаемости от Городничего и Добчинского-Бобчинского — но в конце книга уходит в такой запредельный абсурд, в такую откровенную пародию, что есть надежда: Алиса не забыла главный завет Гоголя: “Над кем смеетесь? Над собою смеетесь!”»
Владимир Панкратов в обзоре «В интересное время живем» («Горький») пытается разобраться — кому, собственно, эта книга адресована, для какого читателя написана: «“Оскорбленные чувства” и не прикидываются совершенно реалистическим текстом. На самом деле это такой гайдаевский “Не может быть” на современный манер: фарс и пародия вместе взятые, которые тем не менее хорошо передают дух времени. А заключительная фраза романа “вирус наветов и кляуз буравил город” похожа на те, что серьезным голосом произносил Зиновий Гердт за кадром в “Двенадцати стульях”.
И все же видно, что для Ганиевой такой жанр внове. Здесь почти нет по-настоящему смешного, а без него не обойтись. Ирония порой оказывается совсем не тонкой. Иногда встречаются фразы типа “В воздухе воняло бездной”, вызывающие смущение. Плюс ко всему автор берет на вооружение пару десятков фактов из мира занимательной науки и старательно транслирует их из уст всех подряд (и мы узнаем, например, что больше: скорость семяизвержения или движения крови по сосудам). Можно, конечно, допустить, что в созданной автором абсурдной вселенной живут персонажи со странными привычками, но нет, не верится.
Есть ощущение, что читатель, которого автор держал в голове, родится лет через сто — и для него это и будет “то, без чего нас невозможно представить, еще труднее — понять”. Набор штампов ведь тоже много говорит об обществе; это нам они скучны, зато интересны иностранцам или читателям из будущего. Ну хорошо, а для нас сегодняшних кто будет книжки писать?»
Роман Сенчин в статье «В сторону беллетристики» («Горький») на примере романа Алисы Ганиевой рассуждает о «прозе» и «беллетристике»: «Формально — написано отлично. Несколько неудачных моментов (именно моментов), правда, есть. Вроде таких: фамилии “Катушкин”, “Получкин”, которые словно пришли из догоголевской эры, одинаковый способ мышления нескольких персонажей.
Читать интересно. Очень. В том числе и благодаря вот таким изюминкам. Но. Но я считаю, что это не проза. Это отличная, мастерски сделанная беллетристика.
Со времен Писарева ведется спор, хуже ли беллетристика прозы или это равнозначные жанры литературы. Ответа до сих пор, кажется, нет. Беллетристику читают больше, а прозу ценят выше. Порой проза — “серьезная проза” — становится попросту нечитабельной. До того она умна и глубока.
Подобных книг нынче очень много. Их пишут и так называемые либералы, и так называемые патриоты. Литераторы и в возрасте, и совсем молодые. Одни книги ярче, увлекательнее, другие — тусклее и скучнее. Но форма близка. Чтобы не быть голословным перечислю некоторые: “Теплоход «Иосиф Бродский»” Александра Проханова; “Поход на Кремль” Алексея Слаповского; “Легкая голова” Ольги Славниковой; “ВИТЧ” Всеволода Бенигсена; “Грибной царь” Юрия Полякова; “Новая реальность» Константина Куприянова; “Иван Ауслендер» Германа Садулаева, “Кровь и почва” Антона Секисова; “Zевс” Игоря Савельева; “Свобода по умолчанию” Игоря Сахновского. И во всех этих романах и повестях есть нота сатиры, но в основном такой, безобидной. Кроме, может, у Проханова да Секисова.
Читать-то они читаются, досуг ими занимаешь, получаешь и кое-какую пользу, но нечто важное они не задевают. Потому что в этих книгах не живая жизнь, а придуманная авторами, хотя и по мотивам жизни реальной. Эти книги не поднимут на борьбу, не заставят человека что-то менять в своем существовании и существовании общества. Они не напугают власть, не вызовут интереса у какого-нибудь надзора».
В рецензии «Никого не жалко: в этом городе должен быть кто-то живой» («Известия») Константин Мильчин говорит о сюжетной слабости романа: «Мне крайне интересно творчество Ганиевой, но ко всем ее книгам имеется одна и та же претензия: стремление донести до читателя некую информацию (действительно ценную) или набор идей для нее важнее развития сюжета. Ганиева-публицист и Ганиева-этнограф обыгрывают Ганиеву-прозаика. В новой книге нет почти ни слова про Кавказ, но проблема ровно та же. Желание высмеять грехи современного российского общества (а когда у нас их не было?) тут поставило в подчиненное положение сюжет.
При том, что есть несколько очень интересных писательских находок. Например, персонажи подчиняют свою жизнь бредовой информации из желтых газет, сборников дурацких фактов и трешовых телепередач. “У каждого свои страхи, — задумался Николай вслух. — Некоторые боятся телефон дома забыть. У меня дочка такая. Даже название у этого есть. Забыл. Какая-то там фобия. Микробов боятся. Постареть. Кротов, самолетов, золота, слепоты. Заболеть раком, наступить на дерьмо. Жениться. Влюбиться. Пернуть на людях. Оказаться на сцене перед толпой. Врачей, тещу, собственного отражения в зеркале. Вшивости, радиации, СПИДа, террористов. Заснуть и не проснуться, обнаружить волос в тарелке с ужином. Клоунов, компьютеров, сквозняков. Неприятного запаха изо рта. Пустых залов. Тоннелей, высоты, воды, денег, лекарств. Нечистой силы. ” Другие верят в приметы и уроки жуликов-коучей. Но завершенности в этом, увы, всё равно нет: находка остается не до конца очищенной от наслоений.
В принципе, мотивы Ганиевой понятны. Она оставила кавказскую тему и заняла новое пространство — сатирическое. Она рисует новый город Глупов, мир, где нет ни одного хорошего человека. Комичны даже вроде бы хорошие правдорубы-резонеры. Никого не жалко.
Жанр этот, в принципе, почтенный и давно существующий в русской литературе, более того, сейчас чистых сатириков нет. Не записывать же Сорокина с Пелевиным в таковых, всё-таки у них всегда в какой-то момент всё переходит в жесткий абсурд и фантастику.
Написать сатирическую книгу, оставаясь в рамках нашей реальности, сложно. Алисе Ганиевой это почти удалось. Но только почти».
Алексей Колобродов в рецензии «Левиафан-лайт» («Rara Avis. Открытая критика») критикует роман Алисы Галиевой жестче и радикальнее, по всем направлениям: «“Оскорбленные чувства” на форзаце названы “романом поколения”, каково? (Впрочем, допускаю, что это пошлость издательская, а не авторская). А дальше скользим по тексту, спотыкаясь в сценах провинциального официоза и гламура: “Семенова повернула к сцене, вуалетка ее подпрыгивала газовым облачком, пряча большие глаза, и виден был только нижний полумесяц лица ее и сжатые карминные губы, чуть припухшие по краям (биоревитализация губ, корректировка контура) ”.
Сколько-нибудь внятной детективной конструкции у Алисы не вышло — и не надо: детектив — средний уровень, обычное писательское ремесло. “Оскорбленные чувства” же претендуют явно на большее (хотя, конечно, как посмотреть) — демонстрацию затхлости и паранойи, в которых пребывает российское замкадье, тьмы власти и власти тьмы (верх и низ давно смешались), вселенских грязей, глубоко дюжинных и корявых человеческих типов; в годину “подъема с колен” всё это геометрически прогрессирует, и при том остается неизбывным.
Впрочем, куда хуже другое: все мы, чего национального греха таить, живем на аналогичных малосимпатичных планетах, и примиряет с этим, среди прочего, само вещество жизней, каждым собираемое для себя, и качество живущих рядом.
А качеств в романе нет. Персонажей много, и они вроде бы должны друг от друга отличаться (хотя бы исповедуемыми пороками, на что романистка и делает ставку), но и тут всё и для всех общее — от бытовухи до бэкграунда, как у слипшихся макарон в кастрюльке неумелого повара».
Ту же параллель с фильмом «Левиафан» использует и Андрей Рудалёв в рецензии «“Левиафан” в твердой обложке» («Учительская газета»): «В связи с этой книжной новинкой можно говорить об “эффекте Звягинцева”, у которого ставка на отечественное левиафанство и нелюбовь отлично конвертируется в успех, славу и лавроносность. Только вот в литературе обмануть и произвести подмены сложнее, чем в кинематографе, и детективоподобный сюжет здесь не поможет.
Подобных произведений разного рода талантливости сейчас много, они на потоке, они в тренде. Через них у нас стяжают репутацию смельчаков и вольнодумцев в противовес пропагандистам, конъюнктурщикам, а также разного рода скандалистам и радикалам. Таковы правила хорошего тона. Литература сейчас вообще все больше становится нишей для идеологии, которая нынче, мягко говоря, не в чести у общества. Вот и устраивает она там свой пляс, выискивая во всем поступь и отметины Левиафана.
Мифологемы, на которых строятся подобные тексты, держатся на утверждении, что советское, будучи синонимом всего самого ужасного и чудовищного, несмотря грандиозные успехи и свершения демократической выкорчевки и перековки, окончательно не было зачищено и проявляется сейчас, будто грибы от грибницы, отравляя все живое и замечательное.
Либеральный радикализм в замесе с нелюбовью и ядом, возможно, хорош для агитки, но никак не для художественного произведения. Книга Алисы Ганиевой получилась конъюнктурной, в ней нет вопросов, а только однозначные, идеологически выверенные ответы. Откровенная пропаганда и односторонность убивают текст. Нельзя сказать, что чувства оскорблены, скорее опечалены. Особенно если вспомнить большие надежды, которые подавали предыдущие книги автора».
Константин Мильчин в колонке «Новый Войнович» («Русский репортер») находит куда более лестное сравнение: « Новый Войнович родился. Прошло чуть больше месяца со смерти Владимира Николаевича, и уже появилась серьезная заявка на роль преемника. Алиса Ганиева, которая до этого писала вполне серьезные романы про Дагестан, выпустила книгу про среднестатистический провинциальный город где-то в центральной России в жанре “доведем реальность до абсурда, чтобы еще злее ее высмеять”. “Оскорбленные чувства” — это кунсткамера, в которой выставлены заспиртованные уродцы: коррумпированные чиновники, нечистые на руку бизнесмены, священник-мужеложец и так далее. Черепа этих персонажей вскрыты, мы видим, насколько пусты их головы, какой бессмысленной чушью забиты их мозги. “»Упражнения для интимных мышц, по пять минут утром и вечером», — записывает Леночка. «Письма своей внутренней богине, ежедневно». «Влюблять, причиняя боль. Трогать волосы, демонстрировать мужчине голую шею. Сделать два комплимента в первые пять минут. Определиться, кто он: визуал, кинестетик или аудиал. После каждого подарка фиксировать прибыль…»”.
Наличие почти детективного сюжета (в самом начале при загадочных обстоятельствах уходит из жизни целый областной министр) никак не отвлекает нас от главной идеи книги: вот они, пророки современной России, смейтесь над ними, смейтесь над собой. Войнович в своих текстах часто прибегал к описанию физиологии и всего низкого; так и в романе Ганиевой со страницы на страницу перепрыгивают то “тощие ягодицы”, то “теплые ягодицы”, то “женский срам” и даже “суровые чресла”. Другое дело, что гонка за Войновичем сыграла с писательницей злую шутку. Потому что в одном романе, под одной обложкой, оказываются сразу два текста. С одной стороны — реалистичное и злое описание нравов и пороков современного облцентра. С другой — попытка создать антиутопию в стиле “Москвы 2042” на современном материале. Если первая идея доведена до логического конца, то второй сюжет прилеплен к первому достаточно искусственно. Но заявка интересная».
Владислав Толстов в обзоре «Девицы-красавицы: новые книги, написанные женщинами» («БайкалИНФОРМ») пишет о фельетонности книги: «Ганиева написала очень неожиданную книгу. Вообще-то она известна как автор книг о жизни своего родного Дагестана — “Салам тебе, Далгат”, “Праздничная гора”, в прошлом году вышел роман “Жених и невеста”, довольно жесткий. Сама Ганиева является известной деятельницей оппозиционного движения, активно участвует в политических акциях вроде митингов за освобождение режиссера Сенцова, так что бытие определяет сознание — и новый роман, “Оскорбленные чувства”, лишний раз это подтверждает. “Оскорбленные чувства” написаны в жанре политической сатиры, такой очерк нравов правителей современной России. Некий неназванный, как в гоголевском “Ревизоре”, русский городок, ночь, ливень. Промокший мужик просит подвезти его до дома. Но потом выходит не доехав до места назначения. На следующий день его обнаруживают мертвым. И начинается кутерьма, потому что покойный является одним из важных персонажей местной элиты, и теперь кого ни возьми — коллег, вдову, любовницу, приятеля-прокурора, — у всех был и мотив избавиться от него, и разные тайны, которые желательно держать поглубже. Это, конечно, не Гоголь, и сатира на нашу “элитку” получилась уж больно лобовая, фельетонная. Но всегда интересно наблюдать за творческими эволюциями хорошего писателя — а Алиса Ганиева хороший писатель. Не могу сказать, что “Оскорбленные чувства” лучший ее роман, но читал его с интересом».
Сергей Оробий в статье «А был ли фикшн?» («Учительская газета») отчасти возражает коллеге: «Русской литературе такой жанр всегда был близок, вспомним “Отцов и детей” или Салтыкова-Щедрина. Читатель XIX века, надо думать, испытывал то же чувство приятного (или не очень) узнавания героев, типажей, деталей времени. В некотором смысле Тургенев с его нигилистами не описывал реальность, а предсказывал, провоцировал ее. Не то у современных прозаиков: с предсказательной силой есть проблемы, авторы стремятся скорее догнать действительность, удержать песок времени между пальцев.
Из этого следуют две новости — плохая и, как водится, хорошая. Плохая заключается в том, что роман всегда проигрывает газете, ток-шоу, тем более соцсетям, как тонкий обед из трех блюд всегда проигрывает Макдоналдсу. Да и документальные расследования становятся все более популярным жанром. Читателю впору задуматься о том, что фикшн-элемент как упаковка новостной сводки нужен все меньше.
Хорошая же новость в том, что “Оскорбленные чувства” все же выделяются из общего фельетонного ряда. Это сложный жанровый эксперимент — не только комедия нравов, но еще и детектив, и триллер. Не карикатура, но трехмерная история: в конце концов перед нами в самом деле роман о чувствах — пусть извращенных, лицемерных. Пусть Ганиева не создала каких-нибудь новых нигилистов, ее роман вряд ли породит полемику (как, впрочем, не породит серьезной полемики почти никакой другой современный русский роман). Но она точнее других уловила эмоциональный фон времени и сделала из этого остроумную, правдивую, жутковатую историю. Еще не “Ревизор”, конечно, но уже “Губернские очерки”».
Но самую неожиданную интерпретацию «Оскорбленных чувств» предлагает Яна Семашко в рецензии «Отчего так в России» («ПРОчтение»): «На первый взгляд “Оскорбленные чувства” — карикатура на обличительный роман. С жанровой точки зрения, это фельетон в триста страниц, написанный в традициях южнорусской литературной школы. Интонация и стиль здесь — ключевые инструменты, с их помощью достигается эффект “художественной тесноты”, подобный тыняновской “тесноте стихового ряда”. Это оказывается возможным благодаря типу повествования, организованному субъективно — со смещением авторской оптики, сменой ракурсов и сближением далековатых явлений, что, вообще говоря, не характерно для эпического рода литературы.
Сказ — привычная для художественного метода Ганиевой нарративная техника — призван лишний раз напомнить читателю о главенстве слова в литературе и повседневности.
Герои Ганиевой живут в постмодернистской России — стране словоцентричной или, если выразиться точнее, логоцентричной. В ней сказанное уже считается сделанным. Названный порок уже как бы искоренен, а словам придаётся гораздо большее значение, чем делам. Важен не поступок, а отношение к нему окружающих. В конце концов, ценно не то, что ты делаешь, а то, что о тебе говорят.
В “Оскорбленных чувствах” образ путинской России сдобрен порцией априорной литературной узнаваемости. Щедринская трагикомическая интонация прочитывается как пародия на “Историю одного города”, роман-дежавю перетекает в экстерьеры современной России, ложится на страницы густым фейсбучным языком.
Вороватое липкое прикосновение пошлости — от которого читателю сложно отделаться — достигается приемами гротеска, литературной и стилистической игры. Внимание Алисы Ганиевой к интертекстуальности оборачивается нанизыванием хрестоматийных мотивов и “общих мест”. Так, именины любовницы министра регионального экономразвития Лямзина Марины Семеновой напоминают празднование дня ангела Настасьи Филипповны у Достоевского. Волна доносов и страхов — провозглашенную Чеховым “беликовщину”, орнаментализм прозы — стилистический метод Олеши. Метафора города N, расширенная до топоса всей России, — “гротескный парад коррупционных страстей” у Гоголя».
Источник