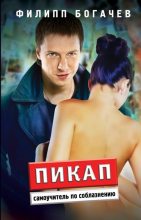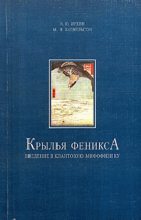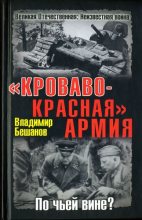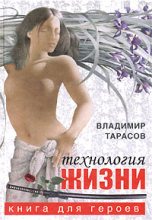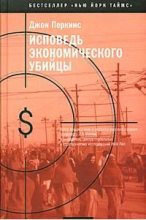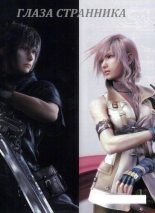Ни разума ни чувственного жара
Это позднее стихотворение примечательно своей музыкальностью, редким стихотворным размером (чередование пятистопных и шестистопных дактилей, интонационно близких к гексаметру) и богатыми аллитерациями, основанными преимущественно на сонорных звуках, которые переводчик стремился передать адекватно. Оно интересно еще и тем, что написано от лица женщины, как женская исповедь. Этот прием встречается и в других стихотворениях Рильке (см. «Пиетà» из «Новых стихотворений». В русской поэзии тоже известны подобные стихотворения: напр., А. А. Блока «Петербургские сумерки снежные» и Б. Л. Пастернака «Магдалина»).
Элегия. Марине Цветаевой-Эфрон
Элегия обращена к поэтессе М. И. Цветаевой (1892–1941). О Цветаевой Рильке впервые узнал из цитированного выше письма к нему Б. Пастернака от 14 апреля 1926 г. и начал оживленную переписку с поэтессой, прерванную его смертью (переписка до сих пор не опубликована). Цветаева откликнулась на смерть Рильке взволнованной поэмой «Новогоднее» (1926). Подробнее см. в кн.:Р. М. Рильке. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М., 1971, стр. 384–385).
«Ни разума, ни чувственного жара…»
Это стихотворение является одним из самых значительных в художественном отношении эстетических манифестов позднего Рильке. Первая строка взята из стихотворения Карла Ланкоронского, малоизвестного поэта-дилетанта.
ПИСЬМА К МОЛОДОМУ ПОЭТУ
«Письма к молодому поэту» впервые вышли отдельным изданием в 1928 г., вскоре после смерти Рильке. Они обращены к австрийскому писателю Францу Ксаверу Каппусу (род. в 1883 г., умер после 1945 г.). Каппус — автор стихов, сатирической книги «В монокль» (1914), сборника новелл «Кровь и железо» (1916), романов «Четырнадцать человек» (1918) и «Пламенные тени» (1942). В пору переписки с Рильке был начинающим поэтом, учеником военного училища.
«Письма к молодому поэту» представляют исключительный интерес для понимания эстетических концепций Рильке, который считал, что поэт не должен искать внешнего успеха (вспомним пушкинские слова, обращенные к поэту: «Ты сам — свой высший суд»). По-русски впервые печатаются целиком в нашем издании. Часть писем была переведена ранее М. И. Цветаевой (эти письма напечатаны в книге: Р.-М. Рильке. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи).
1 Профессор Горачек — преподаватель богословия. Профессор Горачек по происхождению чех, был учителем и добрым знакомым Рильке с юношеских лет. Он преподавал богословие в городке Санкт-Пельтене, в Моравии, где в так называемой «Начальной реальной военной школе» обучался (с большой неохотой) и жил в интернате подросток Рильке, по воле своих родителей, мечтавших видеть его впоследствии блестящим офицером императорской австро-венгерской армии. Ввиду слабого здоровья Рильке этот план был заведомо нереален. Горачек уже тогда понимал это и с симпатией относился к «тихому, серьезному, одаренному юноше, который любил уединение и терпеливо переносил гнет интернатской жизни». Так характеризовал Горачек молодого Рильке в беседе с Ф. К. Каппусом, адресатом «Писем к молодому поэту».
Позднее Горачек преподавал в Военной академии в Вене, где он в 1902 г. и познакомился с юным студентом академии и стихотворцем Ф. К. Каппусом. Согласно рассказу Каппуса, он с большим удовлетворением узнал, что «кадет Рене Рильке в конце концов стал поэтом» (в это время слава Рильке только начиналась). Именно после беседы с Горачеком Ф. К. Каппус и решился послать свои стихи поэту и начать с ним переписку. Понятен тот глубоко уважительный и дружеский тон, в котором Рильке здесь упоминает имя своего старого учителя.
2 Иенс Петер Якобсен (1847—1885) — выдающийся датский писатель второй половины XIX в., тонкий психолог и стилист, наиболее яркий представитель психологически углубленного реализма и импрессионизма в датской прозе. Первоначально отдал известную дань натурализму, изучал естественные науки, переводил сочинения Дарвина. Его известность началась с новеллы «Могенс» (1872); наиболее яркие его произведения — «Мария Груббе»(1876) и «Нильс Люне» (1880), — глубоко раскрывшие трагедию личности в условиях несправедливого социального строя, получили общеевропейскую известность (и были особенно популярны в Германии и в дореволюционной России). Проза Якобсена оказала воздействие на роман Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге» (1910). Лирический характер прозы Якобсена, который выступал в печати и как поэт, а также его критика ханжеского официального христианства должны были, бесспорно, импонировать Рильке, для которого Якобсен долгое время был самым любимым прозаиком.
3 …«Универсальной библиотекой» Филиппа Реклама. — Речь идет о выдающемся немецком издателе XIX в. Филиппе Рекламе, основавшем одноименную издательскую фирму в Лейпциге (и сейчас существующую в ГДР под тем же названием). Основатель фирмы Ф. Реклам был человеком прогрессивных взглядов и сочувствовал революции 1848 года. Издательство Филиппа Реклама в особенности прославилось во второй половине XIX в., когда оно начало издавать для демократического, малообеспеченного читателя свою серию «Универсальная библиотека», в которой можно было приобрести за минимальную цену шедевры мировой и лучшие произведения современной немецкой и зарубежной литературы. В этой серии (существующей и поныне) Издательство Филиппа Реклама выпускало и произведения И. П. Якобсена, упоминаемые далее Рильке.
4 …издано в хорошем переводе Евгением Дидерихсом в Лейпциге… — Евгений Дидерихс — видный немецкий издатель. Он был женат на талантливой поэтессе Лулу фон Штраусс-и-Торней, и его дом в Лейпциге был популярным среди писателей. Там побывал и русский писатель В. Ф. Булгаков, в прошлом секретарь Л. Н. Толстого и автор известных книг о Толстом. Встречу с Дидерихсом и его женой он позднее описал в своей книге очерков, вышедшей под названием «О Толстом. Воспоминания и рассказы» (Тула, 1964).
5 Рихард Демель (1863—1920) — немецкий поэт, наиболее значительный представитель импрессионизма в немецкой поэзии (испытавший и некоторое идейное воздействие ницшеанства).
Наиболее известные книги стихов Демеля — «Да, Любовь!» (1893), «Женщина и мир» (1896). В 1880—1890-е годы Демель, наряду с Лилиенкроном, считался выдающимся поэтом. Проникновенный лирик, он не чуждался в эти годы и социальной тематики. Позднее, после первых выступлений Георге и Рильке и особенно в 1910-е годы, слава Демеля значительно потускнела, чему немало способствовала его шовинистическая позиция в годы первой мировой войны
Источник
Райнер Мария Рильке – Ни разума, ни чувственного жара
Автор: Rainer Maria Rilke
Дата записи
Райнер Мария Рильке – Ни разума, ни чувственного жара
Ни разума, ни чувственного жара
мы не отвергнем; оба эти дара
умножим мы, творцы живых легенд.
Кто избран в этом споре плоти с духом,
начертит знак, хранимый чутким слухом:
легка рука, отточен инструмент.
Малейшее так зорко подмечая,
избранники следят, как часовая
чуть дрогнет стрелка, — и поймут намек!
Они движеньем век ответить в силах
порханию лимонниц легкокрылых
и чувствовать, что чувствует цветок.
Они ранимы, как и все созданья,
но им дано (в величии избранья!)
безмерной мощи выдержать напор.
Пусть слабые оплакивают кары,
им внятны ритмов грозные удары.
Душа их тверже, чем твердыни гор.
Они стоят: пастух на горном кряже
стоит, как бы дремотствуя на страже,
но подойти — почуешь зоркий взгляд.
Как книга звезд ему всегда пророчит,
так им безмолвный рост открыться хочет,
светила, ночь и тайный звездопад.
В глубоком сне не прекращая бдений,
из бытия, рыданий и видений
они творят… И вот — поэт сражен,
и жизнь, и смерть коленопреклоненно
он славит, и наклон его колена
являет миру царственный закон.
Конец стихотворения – все стихи в оригинале.
Стихотворная библиотека. Становитесь участником и публикуйте свои собственные стихи прямо здесь
Стихотворное чудовище – многоязычный сайт о поэзии. Здесь вы можете читать стихи в оригинале на других языках, начиная с английского, а также публиковать свои стихи на доступных языках.
Найти стихотворение, читать стихотворение полностью, стихи, стих, классика и современная поэзия по-русски и на русском языке на сайте Poetry.Monster.
Read poetry in Russian, find Russian poetry, poems and verses by Russian poets on the Poetry.Monster website.
Yandex – лучший поисковик на русском языке
Qwant – лучий поисковик во Франции, замечателен для поиска на французском языке, также на других романских и германских языках
Источник
Шедевры мировой поэзии — Райнер Мария Рильке (чит. И.Смоктуновский, реж.А.Николаев)
Райнер Мария Рильке
Новые стихотворения.
Сонеты к Орфею.
Поздняя лирика
(Из серии «Шедевры мировой поэзии»)
Читает Иннокентий Смоктуновский
Сторона — 1
Из сборника «Новые стихотворения»
Пантера
Перевод Т. Сильман и В. Адмони
Лебедь
Перевод А.Карельского
Голубая гортензия
Перевод А.Биска
Карусель
Перевод В. Леванского
Испанская танцовщица
Перевод К. Богатырева
Архаический торс Аполлона
Перевод И. Беланина
Смерть возлюбленной
Перевод А. Биска
Ночная езда в Санкт- Петербурге
Перевод В. Летучего
Смерть поэта
Познание смерти
Переводы К. Богатырева
Иеремия
Перевод Т. Сильман
Гефеиманский сад
Перевод А. Карельского
Слепнущая
Перевод И. Белавина
Безумные в саду
Перевод Ю. Нейман
Из стихотворений 1913-1915гг
Не вошедших в сборники
В горькой глубине моих ладоней.
Перевод М.Рудницкого
Любой предмет взывает.
Перевод Г. Ратгауза
Сторона 2
ил цикла «Сонеты к Орфею»
Часть первая
I. «О, дерево! Восстань до поднебесья. »
5. «Не воздвигай надгробья. »
Переводы Г. Ратгауза
18. «Господи, слышишь — грядут. »
Перевод а. Карельского
19. «Пусть наша жизнь. »
Перевод Т. Сильман
20. «Преподал тварям ты слух в тишине. »
Перевод В, Микушевича
21. «Снова весна. »
Перевод 3. Миркиной
25. «Но о тебе хочу.. .*
Перевод А. Карельского
Часть вторая
10. «Всей красоте городов угрожает машина…»
Перевод 3. Миркиной
13.»Будь прозорливей разлук…»
Перевод А. Карельского
22. «Наперекор судьбе!.
27. «Правда ль, всё рушит оно. »
Переводы 3. Миркиной
29. «Тихий друг пространств…»
Перевод Г. Ратгауза
из последних стихотворений
Жизненный путь.
Мы только голос…
Переводы в. Куприянова
Ни разума, ни чувственного жара.
Перевод Г. Ратгауза
Ты — цель последняя моих признаний.
(Последняя запись в блокноте)
Перевод Т. Сильман
Ha этой пластинке звучит Рильке второй половины его творческого пути. Цикл новых «стихотворений». две части которого появились в 1907 и 1908 годах, действительно являет нам во многом нового Рильке.
Если в основе «Часослова» лежали русские впечатления поэта, то энергия «Новых стихотворений» движима иным стимулом. Живя в Париже в 1902 году, Рильке познакомился с Огюстом Роденом; в 1903 году он опубликовал о нем восторженную книгу –хвалу 1 1905— I906 годах в течение восьми месяцев был его личным секретарем. В творчестве французского скульптура для Рильке воплотилась его мечта об осязаемом, пластическом — на века! — совершенстве, об «овеществлении человеческих надежд и томлений». Если лиричес¬кое стихотворение по самой своей жанровой сути — эапечатленная эмоция, воплощенная текучесть, то Рильке грезится теперь нечто прямо противоположное — как он говорил, «стихотворенье-пред¬мет».
Тем самым взгляд поэта как будто бы решительно перемещается с человеческой поэтической души на внешний, вещный мир. Но это не значит, что Рильке просто описывает и «живописует» предметы. Его каждый предмет живет, как живет все сущее на земле. Неодушевленных предметов для Рильке не существует. Оттого в корпусе «Новых стихотворений» — «Собор», «Портал», «Архаический торс Аполлона» — эти внешне застывшие, каменные изваяния — встают на равных правах рядом со стихами о гелиотропах и гортензиях, о пантере и фламинго. о слепнущей женщине и о скорбящем пророке.
В форму «Стихотворения предмета» отливается вся многоликостъ вселенной, от малого до великого, от вещественного до духовного; как говорит сам поэт — любой предмет взывает: «Вникни, чувствуй!»!
И оттого-то для Рильке застылость собора или портала — лишь внешняя: на самом деле и в них есть душа и есть язык — как в той розе, стихотворение о которой в цикле называется «Роза изнутри» . Пластическая «роденовская» форма лишь удерживает на последнем, предельном напряжении эту внутри напирающую, бурлящую жизнь. Стихотворение «Испанская танцовщица» тут, пожалуй, самый наглядный пример: вихрем закручивающийся танец плясуньи будто только чудом не вырывается за рамки стихотворения – оставленное пламя. Но таким же чудом является описание архаического торса Аполлона, только процедура поэтического колдовства здесь прямо противоположная: этот неподвижный мраморный обрубок вдруг начинает источать сияние; безглавый и, стало быть «безглазый», он тем не менее смотрит, он вглядывается и внутрь себя, и в душу поэта; «безъязыкий», он тем не менее с ним говорит.
Как добрый волшебник, Рильке склоняется к предметам и одним прикосновением оживляет их – или, точнее говоря, являет нам их дотоле сокрытую, таившую от нас душу. И повсюду он ищет «связь2 и «чертёж» (это ключевые понятия его лирики), соединенность всего сущего в строе мировой гармонии.
Может показаться, что зрелый Рильке – поэт сугубо философический, отрешенный. В самом деле, традиционные темы лирики – природа. Любовь. Эмоциональный пейзаж души – у него крайне редки; вернее они присутствуют, но они всегда выведены за пределы индивидуального и единичного переживания, приподняты над ним и включены во вселенский «чертеж». Рильке ходил между людей, знал счастье дружбы, внимания, понимания – но как поэт он жил, по его собственной формуле «внутри вселенской души».
Это не значит, что он равнодушен к земным болям и бедам. Напротив, свою сопричастность вселенной он понимал и как сопричастность земному жребию, тоже снова и снова пробуя прочность нитей, связывающих его только с цветком, статуей или звездой, но и со всеми страждущими, умирающими, с бедными умалишенными в саду – всё это образы из той же книги «Новых стихотворений», символы страстей и скорбей человеческих. Надо прочувствовать всю серьезность его бытийной уязвленности общим, атмосферным неблагополучием жизни начинающегося XX века. Настроения «заката Европы», «упадка»,
«сумерков богов», «декаданса» — духовная атмосфера вокруг Рильке – рождались ведь тоже не на пустом месте. И Рильке их не просто «впитывал» в себя, а и переживал – предельная чувствительность и ранимость его натуры несомненно очевидна. А потом пришла мировая война, за нею революционные сотрясения – всё это вторгаясь в величественные «чертежи» поэта, снова и снова колебало чаемую мировую гармонию, пронизывало ее вселенским холодом и «мировой скорбью».
Оттого- то уравновешенная тональность «стихотворений предметов» то и дело прерывается тонами жалобы отчаяния в «Гефеиманском саду», в «Пантере» и «Иеремии». На 1910 год приходится публикация романа «Записки Мальте Лауридса Бригге» — предельно трагической исповеди. В 1912 году ложатся на бумагу отчаянные строки: «Кто, если бы я закричал, меня услыхал бы в сонмих ангелов?» Это рождаются «Дуинские элегии» — новый лирический цикл поэта, завершенный в феврале 1922 года и явивший собой поистине энциклопедию экзистенциального трагизма человеческого бытия.
Ещё в «Часослове» Рильке написал о Микеланджело; поднимет разом весь столетний груз и бросит в пропасть собственной груди». Он тут же предсказал сам себе – ибо точнее не опишешь смысла «Дуинских элегий»; в них действительно собраны все горести века, тяжкой глыбой осевшие в сердце поэта. Темен и трагичен тон элегий, темен и герметичен их язык – «из глубины воззвах»…
Но то чародейство оживления неодушевленных предметов которое Рильке практиковал в «Новых стихотворениях» ,не могло исчезнуть без следа, ибо оно было не случайной прихотью «кудесника слова», а выражением неискоренимой любви к жизни. Уже сквозь трагическую музыку элегий пробиваются иные, гимнические тона: «Быть на земле – прекрасно». И в том же феврале 1922 года, одновременно с «Элегиями», Рильке завершает свой последний монументальный лирический цикл. «Сонеты к Орфею». как бы спеша обогнать «время трагедии», преодолеть роковую разорванность.
Как светлый античный храм возвышаются «Сонеты к Орфею» рядом с темной готикой «Элегий». «Хвала», «слава», «осанна» — ключевые понятия этого цикла. В первом совете Орфеев гимн сравни¬вается с древом, «превысившим себя», я с храмом, поднявшимся к небесам над убогостью земных убежищ. И вот так всё в этих сонетах «вертикально», устремлено ввысь. Нет, трагизм не забыт, он присутствует в полифонии «Сонетов», но он как бы лишен острия, «обезврежен». Возвышенным, щедрым жестом принята и побеждена смерть: Орфей, этот «звонкий бог», побьвший в ее царстве, стал лишь умудрённей, мужественней, трезвей. Трагизм бытия ему ве¬дом, как никому другому, но взора ему он не застилает. Ибо надо быть благодарным жизни за то прекрасное, что в ней есть, а этого прекрасного не так уж и мало. Оно ни в чем не виновато; оно до¬стойно похвалы. И сетовать имеет право только тот, кто способен и на хвалу. Потому что право на трагедию, на «жалобу» — не достояние каждого, оно — право несуетных и мудрых.
Все прежние темы возникают в сонетах Рильке, но все в высветленных, «сияющими слезами омытых» тонах (образ из десятой десятой элегии). Всплывает в одном из сонетов и тема России -оформляемая как подарок, как благодарное и благоговейное посвя¬щение. А образ уже не мистически-темный, «монастырский», как в «Часослове», а земной и радостный — образ вольного, галопом скачущего коня.
В последних строках сонета «Будь прозорливей разлук» — едва ли не самых прекрасных во всем цикле — варьируется давняя и люби¬мая мысль Рильке: мысль о тоджестве поэта и мира, о растворении Орфея в «пространстве вселенской души».
К щедро раздаренным, но и к безмолвно хранимым
Кладам великой природы, к неисчислимым
Звонко причисли себя и число уничтожь!
И эта мысль тоже знаменательном образом соприкасается у позднего Рнльке с русской темой. За полгода до смерти он напишет проникновенное стихотворное послание Марине Цветаевой, своему дорогому русскому другу, «женскому цветку на том же неопалимом кусте». Послание это — элегии, в его тоне и стиле — и память о скорбных раздумьях «Дуинских элегий», и щемящее предчувствие близкого конца. Но Рильке открывает послание возвышенным утешением — себе и своему адресату; не надо печалиться о падающих звёздах , го¬ворит он; они если и потери, то «потери во вселенную», а ато значит — не исчезновение в небытие, а возвращенье «в начало начал», в непоколебимую полноту мироздания. «Уменьшить не может уход наш священную цифру» — такова его, Рильке, формула закона поэтического бессмертия.
А.Карельских
Источник