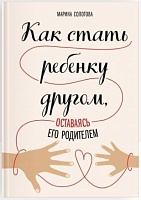- Центр-Эффективной-Педагогики Марины-Солотовой
- Все записи Записи Центр-Эффективной-Педагогики Поиск Центр-Эффективной-Педагогики Марины-Солотовой запись закреплена Центр-Эффективной-Педагогики Марины-Солотовой запись закреплена Марина Солотова Центр-Эффективной-Педагогики Марины-Солотовой запись закреплена Для настроения. Удачного всем дня и хорошего настроения! — Это правда, что ваш брат сидит в тюрьме за кражу? — Нет. его досрочно выпустили за хорошее поведение! — Представляю, как вы все им гордитесь! Показать полностью. » Я вам объявляю информационную. войну! «- сказал поручик Ржевский и обрушил на корнета Оболенского стеллаж с книгами. Друзья- люди, которые хорошо вас знают, но всё равно любят. — Умеете водить машину? — К сожалению,нет. — Отлично! Будьте любезны, присмотрите за моей, пока я схожу в магазин. Она хотела только серьёзных отношений, я согласился. И действительно: за четыре года повода улыбнуться так и не нашлось. Папа с сыном у доктора: — Доктор! Он совсем ничего не ест: масло, сахар, мясо, рыбу, хлеб, колбасу- ничего! — Почему? — Нету ! Иногда я задумываюсь, а всё ли я правильно делаю со своей жизнью, но потом вспоминаю что вообще ничего не делаю, и успокаиваюсь. — Мальчик, держи шоколадку. А что надо сказать дяде? — Партизаны- там. — Девушка, а что вы делаете сегодня вечером? — Но-но! — Опаньки! В лошадку играете?! 1. Красота требует жертв. 2. Красота спасёт мир. Вывод: Спасение мира потребует жертв. Мы живём в удивительное время, где парень может поразить девушку, если просто напишет сообщение без ошибок. — нет настроения? Съешь шоколадку. — Не помогает! — Запей коньяком. Женщинам нравятся романтичные мужчины, пока не понадобится реальная мужская помощь. А он стоит такой- слезки в глазах, ручки из ж..ки! Скорость звука- странная штука. Родители говорят тебе что-то в 20 лет, а доходит только к 40. Если съесть весь торт целиком, не разрезая, то получится, что вы съели всего один кусочек. Учительница русского языка, прочитав в сочинении фразу:» Жизненный опыт приходит с гадами», решила не исправлять ошибку. Хитрые и коварные врачи спрашивают, где болит, а потом давят туда. — Ты почему за собой не следишь? — А я себя ни в чём не подозреваю! — почему ты такой толстый? — Потому что завтрак ем сам, обедом со мной делятся друзья, а враги отдают свой ужин. Проснулась утром, лежу, жду когда мама завтрак приготовит, а потом вспоминаю, что мама- это я . Источник Кто такой паук-крестовик, или Почему я не хочу, чтобы мои дети учились в школе Директор детского медиахолдинга «Академия радости» Марина Солотова — о том, почему она перевела своих детей на семейное обучение. Фото: © L!FE/Владимир Суворов Впервые о том, что школа в том виде, в каком она существует сегодня, не устраивает меня как маму, я всерьёз задумалась в январе 2013 года. Мы с дочкой начали решать уравнения. Причём буква «х» (икс) появилась одновременно с русской буквой «х» (ха). Мне пришлось потратить две недели, чтобы объяснить, почему в тетради по русскому эта буква называется «ха», а по математике — «икс». И как только дочь поняла, чем отличается всемирно используемый латинский алфавит от русского, наступил карантин. Задания мы забирали в Интернете. Среди прочих были уравнения: л+7=9, б+2=5 и 6–м=3. Скажите мне, как надо читать буквы? С учётом того, что в латинском алфавите таких букв нет? После недельного интенсива на тему «Буквы латинского алфавита»? На следующий день мы решали задачу. Я буду помнить её всю жизнь. «Самка паука-крестовика линяет 6 раз в год, а самец — на 2 раза меньше. Сколько раз линяет самец?». Вчитываясь в условие, я понимала, что в нём нет ни одного (ни одного. ) слова, которое понятно моему ребёнку. Прежде, чем дочь начала производить нехитрое арифметическое действие, я должна была объяснить: 1) кто такая самка; 2) кто такой паук-крестовик; 3) как линяет паук (заметьте, это вам не зайчик, который шкурку меняет. Главный вопрос, который сильно интересовал дочь: а ему больно?); 4) кто такой самец; 5) почему этот самый самец линяет реже, чем его жена-самка. О том, что, по моим подозрениям, паук не может линять 6 раз в год, даже если он — самка, просто молчу. То есть прежде, чем мой ребёнок начал решать задачу по математике, я должна была провести урок окружающего мира на тему «Паук-крестовик» минут на 30, желательно найдя предварительно картинку в Интернете. Я не против паука-крестовика, всех паукообразных и собственного общения с ребёнком на тему флоры и фауны. Но я не хочу делать это в пожарном режиме, выполняя домашнюю работу по математике. А спустя неделю папа одного нашего одноклассника подрался с бабушкой другого. По-настоящему подрался, по-взрослому. А одновременно кто-то из родителей пожаловался в департамент на то, что наш первый класс из-за пробного ЕГЭ посадили учиться во вторую смену. И директор школы обвинил в обеих этих неприятностях нашу учительницу — недосмотрела… И она плакала и всхлипывала как девочка, а наши дети стояли вокруг и очень её жалели. Потому что искренне любили. Справедливости ради — было за что. Она чудесная девушка, умница и потомственная, в третьем поколении, учительница, любящая свою работу. И совсем не виновата в том, что весь день пишет никому не нужные отчёты километрами, а на подготовку заданий для своих первоклашек у неё остается только ночь, когда на самом деле трудно сообразить, что аналогов русской буквы «б» в латинском алфавите нет, а про паука-крестовика она детям ещё не рассказывала… И в том, что почему-то вынуждена отвечать перед департаментом за вторую смену (как будто это она её придумала!), она тоже не виновата. Как и в том, что не вышла на улицу и не остановила психически неуравновешенного мужика, который накинулся с кулаками на пожилую женщину за то, что её внук попал снежком в его сына. И бог с ним, с крестовиком. У меня нет претензий к первой учительнице своей дочери, нам с ней повезло. Нам не повезло с Министерством образования. Поняла я это не сразу, поначалу показалось, что просто надо поменять школу, чтобы уж наверняка. Поэтому на следующий год, когда первоклассником стал сын, я поменяла квартиру на квартиру в другом районе города и привела детей в школу, с директором которой знакома 20 лет, очень её уважаю и точно знаю, что работает она от души. Чтобы уж наверняка. Однако последующие два года меня мучил вопрос: зачем? Зачем ребенку в 9 лет знать, что такое Смутное время, и заполнять таблицу, в одном столбике которой писать, что при СССР было хорошо, а что — плохо? Зачем проводить в школе 5 часов, если вечером мы 3 с половиной часа делаем уроки? 8 примеров, 6 уравнений, 4 задачи и начертить прямоугольник по заданным размерам — я не придумываю, честное слово! И это — только математика, столько же — по русскому, а ещё есть чтение и окружающий мир. Зачем мой сын два года ходил в школу, если в сентябре первого класса он читал 45 слов в минуту, а в мае второго класса — 30? Зачем рассказывать второклассникам о том, что происходит на Украине? Зачем десять лет активно внедрять программы Занкова и 2100, чтобы спустя эти 10 лет запретить их использование как неэффективных? К слову, если школа закупила учебники, то — внимание — ещё 5 лет может по ним работать! То есть ещё целое поколение младшей школы мы можем на законных основаниях учить по неэффективным программам. То есть я купила колбасу, она по факту оказалась отравленной, но я должна её съесть, потому что купила… А ещё за первые три года обучения в школе двух моих детей я сделала одно очень неприятное открытие. Современной российской системе образования такой персонаж, как ученик (он же —человек, он же — личность, он же — гражданин) не нужен вообще. То есть нужен, конечно, но как орудие труда. Или средство производства. Или статист. А как человек, личность и гражданин — не нужен. И отдельно взятый элемент системы — учитель, к примеру, или директор школы — даже очень хороший, от бога учитель — ничего не в состоянии изменить. Потому что против паровоза с веником не попрёшь, особенно если ты — гайка в этом паровозе. … В первом классе к 23 февраля сынок от души маршировал в процессе подготовки класса к смотру строя и песни. Не буду сейчас ёрничать по поводу этой формы проведения внеурочной деятельности, придумали — и придумали. На удивление, моего не совсем «коллективного» мальчика занятие увлекло, и он искренне хотел, чтобы его класс победил. Поэтому даже потребовал, чтобы я сводила его в парикмахерскую и подстригла, хотя всю жизнь до этого носил кудрявую и довольно длинную шевелюру. Накануне мы вместе гладили белую рубашку и брюки. Я сгоняла на другой конец города за настоящей пилоткой…. В день смотра ребёнок вернулся из школы не то чтобы расстроенным, но каким-то печальным. Оказалось, что он не участвовал в смотре. Его с ещё одним товарищем оставили в классе, потому что они, как выяснилось, не знали «от зубов» песню, которую надо было браво хором петь. Я сейчас сильно прошу прощения за ясность мысли. Твою мать. Даже если бы от этого хора зависели годовая зарплата учителя, место школы в общероссийском рейтинге и погода на ближайшую неделю на всей планете, скажите, это стоит того, что пережили мой сын и его друг?! … Во втором классе у нас случился открытый урок. К нему мы с ребёнком тоже готовились, потому что ему хорошо объяснили, что он может подвести класс и учительницу, если вдруг что не так. Мы погладили белую рубашку и брюки, прикрепили к жилету георгиевскую ленточку и, не поверите, подстриглись. Но на открытый урок моего сына не пустили. Его отвели в соседний класс, и он просидел урок там, за последней партой. В чужом классе. А за стенкой ответственным товарищам из администрации и департамента показывали, как учат детей. Уверена, учительницу потом хвалили, может, даже премию дали. И никому не было дела, что за стенкой сидит мальчишка, который всю ночь ворочался и мечтал, как он поднимет руку, такой красивый, с георгиевской ленточкой, и ответит, и не подведёт класс и учителя. А на урок его не пустили, потому что он «не вписался с систему» — это он мне так объяснил. Не поняли? И я сначала не поняла, а потом разобралась. Объясняю: на этом уроке дети должны были сидеть за столами по четверо. А Ванька пришёл 25-м. То есть оказался лишним. Кроме того, в классе уже сидели гости… то есть опять не вписался в систему. Я убеждена: если ученик опоздал на открытый урок, учитель должен показать гостям (даже если в их числе — министр образования), как он работает с учеником, который опоздал. Потому что в словосочетании «открытый урок» главное слово — «урок». А на уроки дети часто опаздывают. В противном случае напишите мне накануне записку: «Завтра у нас спектакль, Ваня в нём не участвует, роли не досталось». И тогда мой ребёнок вместо того, чтобы захлёбываться от обиды в соседнем классе, сидел бы дома и читал про Винни-Пуха. Я подчёркиваю: мы учились в хорошей школе. На каждое моё обращение директор реагировала моментально и очень правильно, она у нас вообще всегда была на стороне детей. Мои истории — не страшилки, это — система. В тысяче из тысячи российских муниципальных образовательных учреждений ребёнка не пустили бы в класс, если бы там уже сидели представители администрации и департамента. Потому что в системе главный — не ребёнок, а они, представители. Просто большинство родителей не отвлекаются на такие «мелочи», ибо видят в школе а) камеру хранения и б) учреждение, которое выдаст аттестат и позволит сдать ЕГЭ. Лично я вижу в школе (11 лет жизни!) место, где ребёнка моего как минимум не должны угробить как личность, которая верит в себя, умеет добиваться успехов и не считает себя плохим человеком, недостойным маршировать со всеми вместе, если не выучил наизусть «Варяга». Это не пустые эмоции. Я читала работы своих учеников мастерской журналистики, в которых чёрным по белому написано: «Я плохой сын, потому что у меня тройка по геометрии», «Я мечтаю стать известным режиссёром, но знаю, что не смогу — мне никогда не сдать ЕГЭ по русскому на хорошую оценку». Вдумайтесь: они уверены, что от результата ЕГЭ зависит их счастье! Я, наверное, неправильная мать. Но мне лично всё равно, сколько троек будет у моих детей в аттестате. Мне важно, чтобы сейчас они понимали — они люди, у них всё получится. Чтобы мой сын верил, что сможет посадить яблоню на Марсе, и она приживётся и даже зацветёт. Чтобы дочка не потеряла свою убеждённость в том, что споёт на сцене Большого театра, хотя бы до 18 лет. У каждой мамы наберётся несколько историй про «школьные годы чудесные». То и дело раздаются призывы снести всю систему вместе с министерством, вернуться к эсэсэсэровским учебникам, вернуть в школу игру «Зарница» и пионеров. Возможно, на самом деле надо в очередной раз всё разрушить до основания, а затем. Только я не хочу стрелять из «Авроры». В законе об образовании заложены вполне мирные механизмы, позволяющие избавить конкретную семью от школы, а школу — от семьи. Источник Марина Солотова: Большинство проблем с детьми – от родительской безграмотности Известный тюменский педагог написала учебник для родителей и рассказала, как она к этому пришла. _Нетипичный учебник для взрослых под названием «Как стать ребенку другом, оставаясь его родителем» тюменского педагога, журналиста, руководителя хорошо известной в городе медиашколы «Академия радости» Марины Солотовой в ближайшее время выпустит одно из крупных российских издательств. Расспросить автора о книжке и писательском опыте я собиралась еще в начале лета, но договорились отложить до тех пор, пока сам факт ее выхода станет неотвратимым. Свершилось. Теперь мало что может помешать учебнику добраться до российских родителей. А о том, как получилось сесть и написать, Марина Дмитриевна, верная своему слову, рассказала как на духу._ — Марина, ты теперь педагог, журналист, писатель. Как относишься к этому своему новому статусу? — Я очень хорошо к нему отношусь. В какой-то момент стало появляться ощущение, что я уже много знаю о взаимоотношениях родителей и детей. К тому же люди, которые обращаются ко мне за консультацией, идут в основном с типичными проблемами. Давно думала, что надо об этом написать. И возраст уже, знаешь ли, когда хочется что-то оставить после себя (_улыбается_). В общем-то, мысль появилась очень вовремя, поскольку сразу на меня начали выходить издательства. «Эксмо», кстати, третье издательство, которое обратилось. Выбор был сделан в их пользу. — И как тебе в этом статусе? Склонна ли ты сама себя так называть, представляться так кому-то? — Для меня, конечно, «писатель» больше относится к художественной литературе. Мне не приходит в голову называть так автора учебника. А это учебник. И когда я представляюсь, да, у меня теперь есть основание сказать, что я автор такой-то книги. Слово «автор» мне нравится больше. Кроме того, мне понравился сам процесс. И мне есть что еще сказать. Если эта первая книжка будет востребована, думаю, я продолжу. — Какую планку издательство или ты сама поставила, по достижению которой поймешь, что она востребована, что это успех? — Если тираж будет продаваться. — Какой тираж? — Три тысячи, традиционный для новичков. Плюс электронная и аудио-версии. Но я ж не маркетолог, поэтому в каком моменте начинается успех, честно говоря, не знаю. Здесь все будет зависеть от издательства. — Благодаря Анне Андреевне мы знаем, из чего растут стихи, а на чем взошла твоя книга? — Больше тридцати лет вокруг меня дети. А поскольку любой человек, который работает с детьми, особенно во внешкольной системе… Они же идут сюда не только журналистике учиться, но и дружить, они приходят со своими проблемами и так далее. И стало понятно, что надо помогать — и детям, и родителям. Хотя вот прямо такая мысль: «Сяду и напишу!» — была когда-то, но очень давно. Она начала оформляться, когда три года назад в Фейсбуке вышел мой пост, после которого я «проснулась знаменитой» (от 17 ноября 2016 года: «Про Псков. Сейчас будет длинно…» — почти шесть тысяч реакций, около четырех тысяч репостов. — _Прим. авт._). — Как скоро, кстати, она перешла на регулярную и платную основу? Потому что, я так полагаю, ты сначала помогала бесплатно? — Сначала да. Я и сейчас многим так помогаю. Особенно — безусловно — когда обращаются дети. А они пишут часто. Причем тревожно становится, если эти дети из других городов. Но я придумала схему — начинаю через соцсети искать коллег, психологов в этих городах, договариваться с ними, чтобы с ребенком встретились бесплатно. Параллельно, когда вышел этот пост, посыпались предложения о сотрудничестве от разных средств массовой информации. Сначала я писала для «Лайфа», потом для «Правмира», который мне понравился больше. И когда накопилось уже достаточное количество материала, стало понятно, что это нужно собирать воедино. В какой момент я поняла, что за это можно брать деньги? Это случилось, когда я ощутила на нескольких примерах, что все инструменты, которые я даю, действительно рабочие. Я уже не говорю о том, что они проверены на мне лично, у меня дома два подростка в поре цветущего пубертата. Я знаю, о чем говорю. Еще это на самом деле очень тяжелая работа. Когда человек, который ко мне обращается, рассказывает, в чем проблема, сразу становится понятно, могу я помочь или нет. Я не позиционирую себя как психолог, у меня нет психологического образования. Я педагог и работаю исключительно в рамках педагогики, прежде всего, семейной. Очень часто, когда обозначают проблему, говорю: «Ребята, это не ко мне. Вам надо обратиться к психологу, психотерапевту. Иногда, извините, даже к психиатру». Порой это выясняется в процессе самой консультации. А что касается денег, если мы говорим об индивидуальных консультациях, клиент — не люблю это слово — человек, обратившийся за помощью, платит только после того, как мы с ним проговорим проблему и оба придем к выводу, что этот разговор был полезен, что он действительно от меня что-то получил. А потом на протяжении достаточно длительного времени, уже безвозмездно, я нахожусь на связи. Ночью позвонили: «Вот сейчас он сбежал, меня вызвали в полицию», и так далее. Это хорошая работа, хотя очень тревожно за детей. Но даже учитывая, что это основной вид моей деятельности и у меня двое детей, которых надо чем-то кормить, часто, когда человек обращается за помощью и при этом заплатить не может, я себя начинаю чувствовать «скорой помощью», которая приехала и говорит: «Если у вас полиса нет, то помогать мы не будем…». И в процессе этой работы, в процессе живого общения с родителями я поняла, что большая часть наших проблем, если не все, — от родительской безграмотности. Пардон за такое слово. Начнем с того, что они живут совершенно в другом мире. — Они даже язык свой изобретают, причем меняют слова, как только они уходят «в народ». — Совершенно верно. Первая и главная причина — наличие гаджетов. Это абсолютно другое информационное пространство. А поскольку сегодняшние родители сами этой жизнью не жили, у них нет опыта, который они могли бы передать. А раз нет опыта, значит, есть страх. Если для взрослых этот интернет и все, что там происходит, — темный лес, полный всяких опасностей, то для детей — райский сад, где им хорошо. И здесь возникает серьезное противоречие. Это во-первых. Во-вторых, родители, которые воспитывают сегодняшних детей, это то самое потерянное поколение 1990-х. Нынешние родители первыми в стране увидели, как их одноклассники загибаются от передоза, например. Ну, поколение сериала «Бригада», скажем так. Эта тревожность у них появилась лет в десять, когда их родители пытались справиться хоть с чем-нибудь, и остается до сих пор. Когда я начинаю говорить об этой разнице, родители сначала настроены очень скептически. Тогда, например, на семинарах, я прошу поднять руку тех, кто сам пошел в первый класс в сентябре. Показала мама дорогу, и вы пошли. В крайнем случае, в октябре. Как правило, это сто процентов присутствующих. А потом прошу поднять руку тех, у кого дети пошли в первый класс сами. Или хотя бы в четвертый, пятый. И здесь действительно чувствуется разница. Мы в свои четыре года выходили на улицу, играли в песочнице — мама на нас из окна смотрела — и выстраивали коммуникации. У меня забрали лопатку, я должна была ее как-то вернуть и училась это делать. Сейчас у детей нет возможности научиться общаться так рано, до них это начинает доходить позже при совершенно другом объеме информации. Кроме того, мы сегодня — и родители, и учителя — потеряли одну из основных своих функций. Мы перестали быть основными источниками информации для детей. Эта функция должна быть совершенно другой. Какой? Как с ними общаться? Порой родители просто не знают этого. — Есть мнение, что современное образование морально устаревает в режиме реального времени, и добиваться каких-то результатов с детского сада сейчас не имеет смысла. — Еще одна наша беда! Дело даже не в том, что смысла нет. Так называемое ранее развитие — это очень большая ошибка, я пишу об этом в книге. «Драмкружок, кружок по фото, хоркружок — мне петь охота…». Барто даже не снилось, что происходит с детьми сегодня. Они колоссально перегружены, детям некогда жить — они развиваются. Последний пример. Мы набираем ребят в группу речевых коммуникаций, программа рассчитана на детей с пяти лет. Родители приходят на мастер-класс и говорят: «Только нам расписание не подходит, потому что у нас еще хоккей, танцы, английский и рисование…» Какие здесь риски? Когда приходит мама пятнадцатилетнего подростка и говорит мне: «Он лежит на диване и ничего не хочет делать», — первый вопрос, который я задаю: «Когда вы потащили его на развивайки?» — «В пять лет». — «Все, свои десять лет он отучился, у него лимит закончился». Надо понимать, что современные дети действительно другие, но их физиология остается прежней. Природе совершенно все равно, есть у нас интернет или нет, могут родители заниматься развитием ребенка или нет. Есть определенный лимит, то, что мы называем ресурсом. Его и родителям сейчас не хватает, и детям. А когда его нет, возникают проблемы. Поэтому моя книжка — это учебник. Причем такой классический, с заданиями в конце каждого раздела, которые, хотелось бы, чтобы делали. Вопрос родительского просвещения сейчас стоит очень остро. Об этом и президент говорит, и министерство, и правительство. Все признали эту проблему. Современных родителей надо учить. — Очень хотелось бы надеяться, что изменится. Возможно, потребуется смена поколений. Нынешним детям придется родить своих детей, чтобы понять, что ситуация должна меняться. Я вообще убеждена, что основных навыков, знаний, которые детям должны дать родители, не так уж и много. Первое — ребенок должен все знать о своем здоровье и понимать, что с этим делать. Второе — он должен обладать навыками самообслуживания. А с этим сегодня катастрофа! Я всем рассказываю эту историю, привожу ее в книжке. В 2012 году летом, думаю, дай-ка я своих ребят снова свожу на Алтай. И на четвертый день в походе мы обнаружили такую проблему: отсутствие чистых трусов. Это действительно была проблема. Девочки плакали, они не кривлялись. Единственный способ добывания чистого белья, который они знали, — путем закладки в стиральную машинку. Девчонки были очень удивлены, когда я взяла мыло, подвела их к берегу озера и показала, как этого можно добиться другим путем. Таких примеров масса. Рассказываю об этом на семинаре в Москве. Одна мама говорит: «Ха, трусы! У нас тут посудомойка сломалась. Говорю 11-летнему сыну: „Помой кружку“, — и по выражению его лица понимаю, что он не знает, как это сделать. Включить воду, взять губку, капнуть фейри и отмыть кружку. Этого действия он ни разу не видел. Но я же умела это в свои 11 лет!». Да, но как она этому научилась? — На генном уровне передалось. — Угу. Поэтому важны навыки самообслуживания. И третье — навыки самоподдержки. Ребенок должен уметь себя поддерживать, чтобы в дальнейшем в любой ситуации самоопределения понимать, что ему в этой жизни надо и как этого добиться. Все. И это совсем не про высшее образование. Есть у меня в Фейсбуке замечательная френд Мария Кучерова, которая пишет о ЕГЭ и поступлении в вузы, и у нее действительно был крик души. Она как-то спросила родителей, правда ли они думают, что за учебу в российских вузах надо отдавать своих детей на заклание? И что произойдет, если вдруг ребенок не поступит? Почему считается, что на этом заканчивается жизнь? — Масса примеров, когда люди добивались многого, выбирая окольные пути. — Или даже не окольные, а те, которые им нужны. Я такие примеры вижу: у нас занимаются мальчишки, в десятом классе мама говорит: «Нет, индустриальный университет. Это работа, а вот там — не работа». Это довольно сильный стереотип. Но на мам, особенно бухгалтеров, хорошо действует такой пример: «Десять лет назад сколько человек у вас в кабинете сидело? А сейчас сколько? Вы могли еще 10-15 лет назад представить, что один специалист будет обслуживать несколько компаний, не выходя при этом из дома?». И правда, это стереотипы, которыми мы давим на детей. И ребятишки-то порой остаются в растерянности. С одной стороны, взрослые для них все еще авторитет, они зависят от взрослых, с другой — они отлично понимают: то, что происходит, как-то ненормально. Кто-то вырывается, но, к сожалению, ценой хороших отношений с родителями. И еще есть одна серьезная проблема у современных родителей. Они понимают, что что-то не так, начинают читать и учиться. При этом одна часть родителей считает, что их воспитали, все у них в жизни получилось, поэтому им надо так же — не отпускать гулять, не разрешать подстригаться, и так далее. А другие начитались всех и… «баю-баюшки-баю, не ложися на краю, впрочем, нет, давай ложись, что я лезу в твою жизнь». И то и другое — это очень неправильно. Основная мысль, которую я провожу в книжке от первой до последней страницы, о том, что есть три составляющие идеальных отношений с ребенком. С ним надо дружить, родители должны доминировать, потому что ребенку очень нужна эта опора, и необходим ресурс, чтобы соблюдать этот баланс. Когда эти три составляющие есть — все хорошо. — Ты знаешь, я надеюсь. Мне как-то кажется, что это классика. Потому что моя главная мысль — сохранить отношения с ребенком, выстроить их правильно, чтобы всем было хорошо. А это, наверное, да, останется актуальным. Девяносто процентов мам, которые приходят ко мне на консультацию, начинают с вопроса: «Что мне сделать, чтобы не стать такой, как моя мама?». Их тоже можно понять, потому что это те самые дети 90-х, которые вообще попали как кур в ощип со своим взрослением. — А что ты скажешь насчет ценности этого опыта 90-х, какую-то ценность он вообще несет в себе? — Это навык осторожности, безусловно. Другое дело — мы уже поняли, что мир изменился, и он гораздо более агрессивный, чем считалось. Сейчас должен появиться новый опыт — как научить ребенка в этом мире существовать. А научить можно не путем заключения его в клетку, а путем передачи инструментов, которые помогут ему самому себя защитить. История с детской безопасностью сегодня — в интернете, на улице, в школе, и так далее — очень важна, детей надо учить этому. Поэтому ценность — да, конечно, есть. Но на самом деле, когда говорят про 90-е, и особенно кричат: «Вы что, хотите обратно в 90-е?!», в какой-то момент я понимаю, что действительно порой туда хочу. В 1996 году в той же школе в старой Зареке я выпустила класс, в котором из 20 человек 16 поступили на бюджетные места в вузы. Это тоже говорит об отношении тогда к молодежи, к школе и так далее. Вот этого из 90-х мне сейчас очень не хватает. Заботы о детях не в отчетах министерства, а на деле. Может быть, я не права. Если кто-то сейчас может за государственный счет, за счет департаментов образования отправлять детей в поездки, походы и так далее, пусть мне скажут, я буду рада. Вспоминаю свою работу в школе, когда мы были абсолютно свободны, могли экспериментировать — в хорошем смысле этого слова, не были так зажаты этими совершенно непонятными нормативами, которые с точки зрения здравого смысла вообще никак невозможно объяснить. Туда-то я как раз хочу. Это было первое поколение такой относительной свободы. Кстати сказать, нынешние дети, вот удивительное дело, уже родившиеся при Путине, очень свободолюбивы. И они готовы бороться за свою свободу, знают, как это делать, готовы учить наизусть Конституцию и размахивать ей как флагом. Тут, видишь, вопрос выживаемости. Любой вид будет выживать как может. И эти ребята, наши дети, понимают, что им, чтобы выжить, надо не соглашаться с какими-то нашими историями. И они не соглашаются. Учить родителей правильно к этому относиться — очень важно. Ни один родитель не будет портить отношения со своим ребенком потому, что он его, например, не любит. Ни один родитель не ложится спать с мыслью о том, что бы завтра такого плохого своему ребенку сделать. Все, что происходит, — от большой любви и по незнанию. — Да, научил. Ну, во-первых, я поняла, что нельзя сталкивать взрослых и детей в одной дискуссии по поводу того, как должны строиться их отношения. На мой взгляд, очень большой вред этим отношениям наносит современная постановка проблемы: «Во всем виноваты ваши родители, они вам все неправильно дали, вы это теперь сбрасывайте». Среди моих знакомых есть мамы, чьи 23-летние дети, основные потребители подобных тренингов, начали говорить: «Все, детства у меня не было, ты меня всего лишила, и вообще мне сказали от тебя дистанцироваться, тогда у меня все в этой жизни получится». Это вредно не мамам, которые остаются без своих детей. Это вредно детям, которые остаются без опоры, поддержки и единственного в мире человека, который готов принять их всякими. Ну и потом, при подписании договора, определении сроков работы над книгой я была уверена, что основной материал собран, его осталось только разложить по полочкам. Оказалось — ничего подобного. Для меня открытием был объем работы — что это так много, долго и, прямо скажем, очень непросто. Полтора месяца я точно не выходила из дома. — А легко ли было принять на себя ответственность сформулировать именно так, употребить именно эти слова? — Очень хороший вопрос. Я, правда, на эту тему думала. Имею ли я право, могу ли тиражировать все эти вещи? Но потом поняла: да. Потому что есть результат. А потом, это же дело каждого — принимать или не принимать. Бывает по-разному. Не всегда родители, которые приходят на консультацию, соглашаются с тем, что я им говорю. Но я все же предлагаю попробовать: «Вы же действовали по-другому, у вас не получалось. Давайте теперь сделаем так, хуже же не будет». Когда я говорю, что ребенка на консультацию с собой приводить не надо, некоторые родители очень удивляются. Наверное, думают, что я покажу, где у ребенка кнопка, на которую можно нажать, и он будет совсем другим. Нет. Бывает, что я и с детьми встречаюсь, когда у ребенка есть запрос. Но больше все-таки работаю с родителями. Стоит только родителям что-то изменить, сразу начинают меняться их отношения с детьми. Если родители к этому готовы. — Ты проверяла на ком-то написанные главы? — Конечно! На людях, которым я доверяю. Есть у меня тетушка-филолог, которая тоже с детьми работала всю жизнь. Я отправила ей. Отправила своим друзьям в Ростове, тоже педагогам. Отправляла замечательной Светлане Бобровой, которой я очень признательна за то, что она познакомила меня с чудесной теорией Ньюфелда. Другое дело, что там далеко не все, мне показалось, надо использовать в полном объеме. Но тем не менее мне очень помогли эти все истории. Так что да, я давала им читать. — Кому бы ты в первую очередь рекомендовала этот учебник? — Родителям и тем, кто собирается ими стать, так как очень часто мы спохватываемся позже, чем надо бы. Кстати, с издательством изначально стоял вопрос о том, чтобы писать книжку для родителей подростков. Потом поняли: нет, нужно раньше. Конечно, никогда не поздно. Но лучше подходить к пубертату с каким-то багажом — прежде всего, багажом сложившихся отношений с ребенком. Ведь в этом возрасте, помимо всего, что вылазит благодаря гормонам, вылазят еще и все наши ошибки, которые мы делали с самого их рождения. — Хочу уточнить, подойдет ли эта книга родителям, которые со своими родителями уже разобрались, или всем можно? — Можно и нужно всем. Я не решаю проблем взрослых с их родителями, даже не берусь за это. А потом, я же говорю, у меня к этому свое отношение. Почему-то многие хотят найти причины самых разных проблем именно там. Может, их так учили… Мы все образованные люди и понимаем, что если плохо, надо искать специалиста, который поможет. Я тоже обращалась к психологам. И каждый пытался найти причину в каких-то неправильных с их точки зрения отношениях с моими родителями. Мои родители — это образцово-показательная семья! Следующую книжку я напишу о них. Это были идеальные отношения взрослого и ребенка — что у меня, что у моей младшей сестры. «Ты должна простить маму!» Мне не за что ее прощать, у меня нет повода обижаться на свою маму, и не было никогда. Конечно, были какие-то шероховатости в те же 14-15 лет, но они настолько быстро забывались, и у меня действительно нет ни одного повода. — Я спрашиваю, потому что это действительно тренд. — Очень неправильный. Конечно, бывают истории отношений из ряда вон выходящие. Но часто и это можно понять. Вот ваше поколение, кстати, взрослело как раз в тот самый период, когда родители проснулись в другой стране, растерялись, не знали, что с этим делать. Но нельзя так обесценивать положительную родительскую роль, как это происходит сейчас. Этот современный тренд подводит к тому, что мы критикуем все плохое, что родители сделали, и вообще не вспоминаем о том, что было и что-то хорошее. У каждого человека должна быть опора. И, как правило, это близкие люди, семья, родители. — Кому бы ты подарила свою книгу? Как жест. — Подарила бы… да всем! Слушай, даже не знаю. Прежде всего, родителям детей, которые у меня учатся. Именно как жест. Потому что это родители, которые доверили нам самое дорогое, что у них есть. Им бы — с удовольствием и радостью. Естественно, близким. Всем, кто поддерживал, верил в это дело, говорил: «Давай-давай, пиши!» А потом там в разделе благодарностей очень много фамилий. Начиная с родителей, с моей первой учительницы, директора школы. Это люди, которым я очень благодарна. Но самый большой список — это, конечно, фамилии моих учеников. Я поняла, насколько у меня серьезный педагогический опыт, когда прочитала в соцсетях, что одна моя выпускница отметила серебряную свадьбу. Тут до меня дошло, сколько лет позади! (смеется). Но поскольку у меня самой еще дети маленькие, не приходится чувствовать себя… (подыскивает слово) бабушкой! Поэтому подарила бы тем людям, которые были рядом все эти годы, благодаря которым, собственно, и получилась эта книжка. Источник
- Кто такой паук-крестовик, или Почему я не хочу, чтобы мои дети учились в школе
- Директор детского медиахолдинга «Академия радости» Марина Солотова — о том, почему она перевела своих детей на семейное обучение.
- Марина Солотова: Большинство проблем с детьми – от родительской безграмотности
- Известный тюменский педагог написала учебник для родителей и рассказала, как она к этому пришла.
Центр-Эффективной-Педагогики Марины-Солотовой
- Все записи
- Записи Центр-Эффективной-Педагогики
- Поиск
Центр-Эффективной-Педагогики Марины-Солотовой запись закреплена
Центр-Эффективной-Педагогики Марины-Солотовой запись закреплена
Марина Солотова
Центр-Эффективной-Педагогики Марины-Солотовой запись закреплена
Для настроения. Удачного всем дня и хорошего настроения!
— Это правда, что ваш брат сидит в тюрьме за кражу?
— Нет. его досрочно выпустили за хорошее поведение!
— Представляю, как вы все им гордитесь!
Показать полностью.
» Я вам объявляю информационную. войну! «-
сказал поручик Ржевский и обрушил на корнета
Оболенского стеллаж с книгами.
Друзья- люди, которые хорошо вас знают, но всё равно любят.
— Умеете водить машину?
— К сожалению,нет.
— Отлично! Будьте любезны, присмотрите за моей,
пока я схожу в магазин.
Она хотела только серьёзных отношений, я согласился.
И действительно: за четыре года повода улыбнуться так и не нашлось.
Папа с сыном у доктора:
— Доктор! Он совсем ничего не ест:
масло, сахар, мясо, рыбу, хлеб, колбасу- ничего!
— Почему?
— Нету !
Иногда я задумываюсь, а всё ли я правильно делаю
со своей жизнью,
но потом вспоминаю что вообще ничего не делаю, и успокаиваюсь.
— Мальчик, держи шоколадку. А что надо сказать
дяде?
— Партизаны- там.
— Девушка, а что вы делаете сегодня вечером?
— Но-но!
— Опаньки! В лошадку играете?!
1. Красота требует жертв.
2. Красота спасёт мир.
Вывод: Спасение мира потребует жертв.
Мы живём в удивительное время, где парень может
поразить девушку, если просто напишет сообщение
без ошибок.
— нет настроения? Съешь шоколадку.
— Не помогает!
— Запей коньяком.
Женщинам нравятся романтичные мужчины,
пока не понадобится реальная мужская помощь.
А он стоит такой- слезки в глазах, ручки из ж..ки!
Скорость звука- странная штука. Родители
говорят тебе что-то в 20 лет, а доходит
только к 40.
Если съесть весь торт целиком, не разрезая, то получится,
что вы съели всего один кусочек.
Учительница русского языка, прочитав в сочинении
фразу:» Жизненный опыт приходит с гадами», решила
не исправлять ошибку.
Хитрые и коварные врачи спрашивают, где болит,
а потом давят туда.
— Ты почему за собой не следишь?
— А я себя ни в чём не подозреваю!
— почему ты такой толстый?
— Потому что завтрак ем сам, обедом со мной делятся друзья,
а враги отдают свой ужин.
Проснулась утром, лежу, жду когда мама завтрак приготовит,
а потом вспоминаю, что мама- это я .
Источник
Кто такой паук-крестовик, или Почему я не хочу, чтобы мои дети учились в школе
Директор детского медиахолдинга «Академия радости» Марина Солотова — о том, почему она перевела своих детей на семейное обучение.
Фото: © L!FE/Владимир Суворов
Впервые о том, что школа в том виде, в каком она существует сегодня, не устраивает меня как маму, я всерьёз задумалась в январе 2013 года. Мы с дочкой начали решать уравнения. Причём буква «х» (икс) появилась одновременно с русской буквой «х» (ха). Мне пришлось потратить две недели, чтобы объяснить, почему в тетради по русскому эта буква называется «ха», а по математике — «икс». И как только дочь поняла, чем отличается всемирно используемый латинский алфавит от русского, наступил карантин. Задания мы забирали в Интернете. Среди прочих были уравнения: л+7=9, б+2=5 и 6–м=3.
Скажите мне, как надо читать буквы? С учётом того, что в латинском алфавите таких букв нет? После недельного интенсива на тему «Буквы латинского алфавита»?
На следующий день мы решали задачу. Я буду помнить её всю жизнь. «Самка паука-крестовика линяет 6 раз в год, а самец — на 2 раза меньше. Сколько раз линяет самец?». Вчитываясь в условие, я понимала, что в нём нет ни одного (ни одного. ) слова, которое понятно моему ребёнку. Прежде, чем дочь начала производить нехитрое арифметическое действие, я должна была объяснить: 1) кто такая самка; 2) кто такой паук-крестовик; 3) как линяет паук (заметьте, это вам не зайчик, который шкурку меняет. Главный вопрос, который сильно интересовал дочь: а ему больно?); 4) кто такой самец; 5) почему этот самый самец линяет реже, чем его жена-самка. О том, что, по моим подозрениям, паук не может линять 6 раз в год, даже если он — самка, просто молчу.
То есть прежде, чем мой ребёнок начал решать задачу по математике, я должна была провести урок окружающего мира на тему «Паук-крестовик» минут на 30, желательно найдя предварительно картинку в Интернете. Я не против паука-крестовика, всех паукообразных и собственного общения с ребёнком на тему флоры и фауны. Но я не хочу делать это в пожарном режиме, выполняя домашнюю работу по математике.
А спустя неделю папа одного нашего одноклассника подрался с бабушкой другого. По-настоящему подрался, по-взрослому. А одновременно кто-то из родителей пожаловался в департамент на то, что наш первый класс из-за пробного ЕГЭ посадили учиться во вторую смену. И директор школы обвинил в обеих этих неприятностях нашу учительницу — недосмотрела… И она плакала и всхлипывала как девочка, а наши дети стояли вокруг и очень её жалели. Потому что искренне любили. Справедливости ради — было за что. Она чудесная девушка, умница и потомственная, в третьем поколении, учительница, любящая свою работу. И совсем не виновата в том, что весь день пишет никому не нужные отчёты километрами, а на подготовку заданий для своих первоклашек у неё остается только ночь, когда на самом деле трудно сообразить, что аналогов русской буквы «б» в латинском алфавите нет, а про паука-крестовика она детям ещё не рассказывала… И в том, что почему-то вынуждена отвечать перед департаментом за вторую смену (как будто это она её придумала!), она тоже не виновата. Как и в том, что не вышла на улицу и не остановила психически неуравновешенного мужика, который накинулся с кулаками на пожилую женщину за то, что её внук попал снежком в его сына.
И бог с ним, с крестовиком. У меня нет претензий к первой учительнице своей дочери, нам с ней повезло. Нам не повезло с Министерством образования. Поняла я это не сразу, поначалу показалось, что просто надо поменять школу, чтобы уж наверняка. Поэтому на следующий год, когда первоклассником стал сын, я поменяла квартиру на квартиру в другом районе города и привела детей в школу, с директором которой знакома 20 лет, очень её уважаю и точно знаю, что работает она от души. Чтобы уж наверняка.
Однако последующие два года меня мучил вопрос: зачем? Зачем ребенку в 9 лет знать, что такое Смутное время, и заполнять таблицу, в одном столбике которой писать, что при СССР было хорошо, а что — плохо? Зачем проводить в школе 5 часов, если вечером мы 3 с половиной часа делаем уроки? 8 примеров, 6 уравнений, 4 задачи и начертить прямоугольник по заданным размерам — я не придумываю, честное слово! И это — только математика, столько же — по русскому, а ещё есть чтение и окружающий мир. Зачем мой сын два года ходил в школу, если в сентябре первого класса он читал 45 слов в минуту, а в мае второго класса — 30? Зачем рассказывать второклассникам о том, что происходит на Украине? Зачем десять лет активно внедрять программы Занкова и 2100, чтобы спустя эти 10 лет запретить их использование как неэффективных? К слову, если школа закупила учебники, то — внимание — ещё 5 лет может по ним работать! То есть ещё целое поколение младшей школы мы можем на законных основаниях учить по неэффективным программам. То есть я купила колбасу, она по факту оказалась отравленной, но я должна её съесть, потому что купила…
А ещё за первые три года обучения в школе двух моих детей я сделала одно очень неприятное открытие. Современной российской системе образования такой персонаж, как ученик (он же —человек, он же — личность, он же — гражданин) не нужен вообще. То есть нужен, конечно, но как орудие труда. Или средство производства. Или статист. А как человек, личность и гражданин — не нужен. И отдельно взятый элемент системы — учитель, к примеру, или директор школы — даже очень хороший, от бога учитель — ничего не в состоянии изменить. Потому что против паровоза с веником не попрёшь, особенно если ты — гайка в этом паровозе.
… В первом классе к 23 февраля сынок от души маршировал в процессе подготовки класса к смотру строя и песни. Не буду сейчас ёрничать по поводу этой формы проведения внеурочной деятельности, придумали — и придумали. На удивление, моего не совсем «коллективного» мальчика занятие увлекло, и он искренне хотел, чтобы его класс победил. Поэтому даже потребовал, чтобы я сводила его в парикмахерскую и подстригла, хотя всю жизнь до этого носил кудрявую и довольно длинную шевелюру. Накануне мы вместе гладили белую рубашку и брюки. Я сгоняла на другой конец города за настоящей пилоткой….
В день смотра ребёнок вернулся из школы не то чтобы расстроенным, но каким-то печальным. Оказалось, что он не участвовал в смотре. Его с ещё одним товарищем оставили в классе, потому что они, как выяснилось, не знали «от зубов» песню, которую надо было браво хором петь. Я сейчас сильно прошу прощения за ясность мысли. Твою мать. Даже если бы от этого хора зависели годовая зарплата учителя, место школы в общероссийском рейтинге и погода на ближайшую неделю на всей планете, скажите, это стоит того, что пережили мой сын и его друг?!
… Во втором классе у нас случился открытый урок. К нему мы с ребёнком тоже готовились, потому что ему хорошо объяснили, что он может подвести класс и учительницу, если вдруг что не так. Мы погладили белую рубашку и брюки, прикрепили к жилету георгиевскую ленточку и, не поверите, подстриглись.
Но на открытый урок моего сына не пустили. Его отвели в соседний класс, и он просидел урок там, за последней партой. В чужом классе. А за стенкой ответственным товарищам из администрации и департамента показывали, как учат детей. Уверена, учительницу потом хвалили, может, даже премию дали. И никому не было дела, что за стенкой сидит мальчишка, который всю ночь ворочался и мечтал, как он поднимет руку, такой красивый, с георгиевской ленточкой, и ответит, и не подведёт класс и учителя.
А на урок его не пустили, потому что он «не вписался с систему» — это он мне так объяснил. Не поняли? И я сначала не поняла, а потом разобралась. Объясняю: на этом уроке дети должны были сидеть за столами по четверо. А Ванька пришёл 25-м. То есть оказался лишним. Кроме того, в классе уже сидели гости… то есть опять не вписался в систему. Я убеждена: если ученик опоздал на открытый урок, учитель должен показать гостям (даже если в их числе — министр образования), как он работает с учеником, который опоздал. Потому что в словосочетании «открытый урок» главное слово — «урок». А на уроки дети часто опаздывают. В противном случае напишите мне накануне записку: «Завтра у нас спектакль, Ваня в нём не участвует, роли не досталось». И тогда мой ребёнок вместо того, чтобы захлёбываться от обиды в соседнем классе, сидел бы дома и читал про Винни-Пуха.
Я подчёркиваю: мы учились в хорошей школе. На каждое моё обращение директор реагировала моментально и очень правильно, она у нас вообще всегда была на стороне детей. Мои истории — не страшилки, это — система. В тысяче из тысячи российских муниципальных образовательных учреждений ребёнка не пустили бы в класс, если бы там уже сидели представители администрации и департамента. Потому что в системе главный — не ребёнок, а они, представители. Просто большинство родителей не отвлекаются на такие «мелочи», ибо видят в школе а) камеру хранения и б) учреждение, которое выдаст аттестат и позволит сдать ЕГЭ. Лично я вижу в школе (11 лет жизни!) место, где ребёнка моего как минимум не должны угробить как личность, которая верит в себя, умеет добиваться успехов и не считает себя плохим человеком, недостойным маршировать со всеми вместе, если не выучил наизусть «Варяга». Это не пустые эмоции. Я читала работы своих учеников мастерской журналистики, в которых чёрным по белому написано: «Я плохой сын, потому что у меня тройка по геометрии», «Я мечтаю стать известным режиссёром, но знаю, что не смогу — мне никогда не сдать ЕГЭ по русскому на хорошую оценку». Вдумайтесь: они уверены, что от результата ЕГЭ зависит их счастье!
Я, наверное, неправильная мать. Но мне лично всё равно, сколько троек будет у моих детей в аттестате. Мне важно, чтобы сейчас они понимали — они люди, у них всё получится. Чтобы мой сын верил, что сможет посадить яблоню на Марсе, и она приживётся и даже зацветёт. Чтобы дочка не потеряла свою убеждённость в том, что споёт на сцене Большого театра, хотя бы до 18 лет.
У каждой мамы наберётся несколько историй про «школьные годы чудесные». То и дело раздаются призывы снести всю систему вместе с министерством, вернуться к эсэсэсэровским учебникам, вернуть в школу игру «Зарница» и пионеров. Возможно, на самом деле надо в очередной раз всё разрушить до основания, а затем. Только я не хочу стрелять из «Авроры». В законе об образовании заложены вполне мирные механизмы, позволяющие избавить конкретную семью от школы, а школу — от семьи.
Источник
Марина Солотова: Большинство проблем с детьми – от родительской безграмотности
Известный тюменский педагог написала учебник для родителей и рассказала, как она к этому пришла.
_Нетипичный учебник для взрослых под названием «Как стать ребенку другом, оставаясь его родителем» тюменского педагога, журналиста, руководителя хорошо известной в городе медиашколы «Академия радости» Марины Солотовой в ближайшее время выпустит одно из крупных российских издательств. Расспросить автора о книжке и писательском опыте я собиралась еще в начале лета, но договорились отложить до тех пор, пока сам факт ее выхода станет неотвратимым. Свершилось. Теперь мало что может помешать учебнику добраться до российских родителей. А о том, как получилось сесть и написать, Марина Дмитриевна, верная своему слову, рассказала как на духу._
— Марина, ты теперь педагог, журналист, писатель. Как относишься к этому своему новому статусу?
— Я очень хорошо к нему отношусь. В какой-то момент стало появляться ощущение, что я уже много знаю о взаимоотношениях родителей и детей. К тому же люди, которые обращаются ко мне за консультацией, идут в основном с типичными проблемами. Давно думала, что надо об этом написать. И возраст уже, знаешь ли, когда хочется что-то оставить после себя (_улыбается_). В общем-то, мысль появилась очень вовремя, поскольку сразу на меня начали выходить издательства. «Эксмо», кстати, третье издательство, которое обратилось. Выбор был сделан в их пользу.
— И как тебе в этом статусе? Склонна ли ты сама себя так называть, представляться так кому-то?
— Для меня, конечно, «писатель» больше относится к художественной литературе. Мне не приходит в голову называть так автора учебника. А это учебник. И когда я представляюсь, да, у меня теперь есть основание сказать, что я автор такой-то книги. Слово «автор» мне нравится больше.
Кроме того, мне понравился сам процесс. И мне есть что еще сказать. Если эта первая книжка будет востребована, думаю, я продолжу.
— Какую планку издательство или ты сама поставила, по достижению которой поймешь, что она востребована, что это успех?
— Если тираж будет продаваться.
— Какой тираж?
— Три тысячи, традиционный для новичков. Плюс электронная и аудио-версии. Но я ж не маркетолог, поэтому в каком моменте начинается успех, честно говоря, не знаю. Здесь все будет зависеть от издательства.
— Благодаря Анне Андреевне мы знаем, из чего растут стихи, а на чем взошла твоя книга?
— Больше тридцати лет вокруг меня дети. А поскольку любой человек, который работает с детьми, особенно во внешкольной системе… Они же идут сюда не только журналистике учиться, но и дружить, они приходят со своими проблемами и так далее. И стало понятно, что надо помогать — и детям, и родителям.
Хотя вот прямо такая мысль: «Сяду и напишу!» — была когда-то, но очень давно. Она начала оформляться, когда три года назад в Фейсбуке вышел мой пост, после которого я «проснулась знаменитой» (от 17 ноября 2016 года: «Про Псков. Сейчас будет длинно…» — почти шесть тысяч реакций, около четырех тысяч репостов. — _Прим. авт._).
— Как скоро, кстати, она перешла на регулярную и платную основу? Потому что, я так полагаю, ты сначала помогала бесплатно?
— Сначала да. Я и сейчас многим так помогаю. Особенно — безусловно — когда обращаются дети. А они пишут часто. Причем тревожно становится, если эти дети из других городов. Но я придумала схему — начинаю через соцсети искать коллег, психологов в этих городах, договариваться с ними, чтобы с ребенком встретились бесплатно.
Параллельно, когда вышел этот пост, посыпались предложения о сотрудничестве от разных средств массовой информации. Сначала я писала для «Лайфа», потом для «Правмира», который мне понравился больше. И когда накопилось уже достаточное количество материала, стало понятно, что это нужно собирать воедино.
В какой момент я поняла, что за это можно брать деньги? Это случилось, когда я ощутила на нескольких примерах, что все инструменты, которые я даю, действительно рабочие. Я уже не говорю о том, что они проверены на мне лично, у меня дома два подростка в поре цветущего пубертата. Я знаю, о чем говорю. Еще это на самом деле очень тяжелая работа.
Когда человек, который ко мне обращается, рассказывает, в чем проблема, сразу становится понятно, могу я помочь или нет. Я не позиционирую себя как психолог, у меня нет психологического образования. Я педагог и работаю исключительно в рамках педагогики, прежде всего, семейной. Очень часто, когда обозначают проблему, говорю: «Ребята, это не ко мне. Вам надо обратиться к психологу, психотерапевту. Иногда, извините, даже к психиатру». Порой это выясняется в процессе самой консультации.
А что касается денег, если мы говорим об индивидуальных консультациях, клиент — не люблю это слово — человек, обратившийся за помощью, платит только после того, как мы с ним проговорим проблему и оба придем к выводу, что этот разговор был полезен, что он действительно от меня что-то получил. А потом на протяжении достаточно длительного времени, уже безвозмездно, я нахожусь на связи. Ночью позвонили: «Вот сейчас он сбежал, меня вызвали в полицию», и так далее. Это хорошая работа, хотя очень тревожно за детей.
Но даже учитывая, что это основной вид моей деятельности и у меня двое детей, которых надо чем-то кормить, часто, когда человек обращается за помощью и при этом заплатить не может, я себя начинаю чувствовать «скорой помощью», которая приехала и говорит: «Если у вас полиса нет, то помогать мы не будем…».
И в процессе этой работы, в процессе живого общения с родителями я поняла, что большая часть наших проблем, если не все, — от родительской безграмотности. Пардон за такое слово.
Начнем с того, что они живут совершенно в другом мире.
— Они даже язык свой изобретают, причем меняют слова, как только они уходят «в народ».
— Совершенно верно. Первая и главная причина — наличие гаджетов. Это абсолютно другое информационное пространство. А поскольку сегодняшние родители сами этой жизнью не жили, у них нет опыта, который они могли бы передать. А раз нет опыта, значит, есть страх.
Если для взрослых этот интернет и все, что там происходит, — темный лес, полный всяких опасностей, то для детей — райский сад, где им хорошо. И здесь возникает серьезное противоречие. Это во-первых.
Во-вторых, родители, которые воспитывают сегодняшних детей, это то самое потерянное поколение 1990-х. Нынешние родители первыми в стране увидели, как их одноклассники загибаются от передоза, например. Ну, поколение сериала «Бригада», скажем так. Эта тревожность у них появилась лет в десять, когда их родители пытались справиться хоть с чем-нибудь, и остается до сих пор.
Когда я начинаю говорить об этой разнице, родители сначала настроены очень скептически. Тогда, например, на семинарах, я прошу поднять руку тех, кто сам пошел в первый класс в сентябре. Показала мама дорогу, и вы пошли. В крайнем случае, в октябре. Как правило, это сто процентов присутствующих. А потом прошу поднять руку тех, у кого дети пошли в первый класс сами. Или хотя бы в четвертый, пятый. И здесь действительно чувствуется разница.
Мы в свои четыре года выходили на улицу, играли в песочнице — мама на нас из окна смотрела — и выстраивали коммуникации. У меня забрали лопатку, я должна была ее как-то вернуть и училась это делать. Сейчас у детей нет возможности научиться общаться так рано, до них это начинает доходить позже при совершенно другом объеме информации.
Кроме того, мы сегодня — и родители, и учителя — потеряли одну из основных своих функций. Мы перестали быть основными источниками информации для детей. Эта функция должна быть совершенно другой. Какой? Как с ними общаться? Порой родители просто не знают этого.
— Есть мнение, что современное образование морально устаревает в режиме реального времени, и добиваться каких-то результатов с детского сада сейчас не имеет смысла.
— Еще одна наша беда! Дело даже не в том, что смысла нет. Так называемое ранее развитие — это очень большая ошибка, я пишу об этом в книге. «Драмкружок, кружок по фото, хоркружок — мне петь охота…». Барто даже не снилось, что происходит с детьми сегодня. Они колоссально перегружены, детям некогда жить — они развиваются.
Последний пример. Мы набираем ребят в группу речевых коммуникаций, программа рассчитана на детей с пяти лет. Родители приходят на мастер-класс и говорят: «Только нам расписание не подходит, потому что у нас еще хоккей, танцы, английский и рисование…» Какие здесь риски? Когда приходит мама пятнадцатилетнего подростка и говорит мне: «Он лежит на диване и ничего не хочет делать», — первый вопрос, который я задаю: «Когда вы потащили его на развивайки?» — «В пять лет». — «Все, свои десять лет он отучился, у него лимит закончился».
Надо понимать, что современные дети действительно другие, но их физиология остается прежней. Природе совершенно все равно, есть у нас интернет или нет, могут родители заниматься развитием ребенка или нет. Есть определенный лимит, то, что мы называем ресурсом. Его и родителям сейчас не хватает, и детям. А когда его нет, возникают проблемы.
Поэтому моя книжка — это учебник. Причем такой классический, с заданиями в конце каждого раздела, которые, хотелось бы, чтобы делали.
Вопрос родительского просвещения сейчас стоит очень остро. Об этом и президент говорит, и министерство, и правительство. Все признали эту проблему. Современных родителей надо учить.
— Очень хотелось бы надеяться, что изменится. Возможно, потребуется смена поколений. Нынешним детям придется родить своих детей, чтобы понять, что ситуация должна меняться.
Я вообще убеждена, что основных навыков, знаний, которые детям должны дать родители, не так уж и много. Первое — ребенок должен все знать о своем здоровье и понимать, что с этим делать. Второе — он должен обладать навыками самообслуживания. А с этим сегодня катастрофа!
Я всем рассказываю эту историю, привожу ее в книжке. В 2012 году летом, думаю, дай-ка я своих ребят снова свожу на Алтай. И на четвертый день в походе мы обнаружили такую проблему: отсутствие чистых трусов. Это действительно была проблема. Девочки плакали, они не кривлялись. Единственный способ добывания чистого белья, который они знали, — путем закладки в стиральную машинку. Девчонки были очень удивлены, когда я взяла мыло, подвела их к берегу озера и показала, как этого можно добиться другим путем.
Таких примеров масса. Рассказываю об этом на семинаре в Москве. Одна мама говорит: «Ха, трусы! У нас тут посудомойка сломалась. Говорю 11-летнему сыну: „Помой кружку“, — и по выражению его лица понимаю, что он не знает, как это сделать. Включить воду, взять губку, капнуть фейри и отмыть кружку. Этого действия он ни разу не видел. Но я же умела это в свои 11 лет!». Да, но как она этому научилась?
— На генном уровне передалось.
— Угу. Поэтому важны навыки самообслуживания. И третье — навыки самоподдержки. Ребенок должен уметь себя поддерживать, чтобы в дальнейшем в любой ситуации самоопределения понимать, что ему в этой жизни надо и как этого добиться. Все. И это совсем не про высшее образование.
Есть у меня в Фейсбуке замечательная френд Мария Кучерова, которая пишет о ЕГЭ и поступлении в вузы, и у нее действительно был крик души. Она как-то спросила родителей, правда ли они думают, что за учебу в российских вузах надо отдавать своих детей на заклание? И что произойдет, если вдруг ребенок не поступит? Почему считается, что на этом заканчивается жизнь?
— Масса примеров, когда люди добивались многого, выбирая окольные пути.
— Или даже не окольные, а те, которые им нужны. Я такие примеры вижу: у нас занимаются мальчишки, в десятом классе мама говорит: «Нет, индустриальный университет. Это работа, а вот там — не работа».
Это довольно сильный стереотип. Но на мам, особенно бухгалтеров, хорошо действует такой пример: «Десять лет назад сколько человек у вас в кабинете сидело? А сейчас сколько? Вы могли еще 10-15 лет назад представить, что один специалист будет обслуживать несколько компаний, не выходя при этом из дома?».
И правда, это стереотипы, которыми мы давим на детей. И ребятишки-то порой остаются в растерянности. С одной стороны, взрослые для них все еще авторитет, они зависят от взрослых, с другой — они отлично понимают: то, что происходит, как-то ненормально. Кто-то вырывается, но, к сожалению, ценой хороших отношений с родителями.
И еще есть одна серьезная проблема у современных родителей. Они понимают, что что-то не так, начинают читать и учиться. При этом одна часть родителей считает, что их воспитали, все у них в жизни получилось, поэтому им надо так же — не отпускать гулять, не разрешать подстригаться, и так далее. А другие начитались всех и… «баю-баюшки-баю, не ложися на краю, впрочем, нет, давай ложись, что я лезу в твою жизнь». И то и другое — это очень неправильно.
Основная мысль, которую я провожу в книжке от первой до последней страницы, о том, что есть три составляющие идеальных отношений с ребенком. С ним надо дружить, родители должны доминировать, потому что ребенку очень нужна эта опора, и необходим ресурс, чтобы соблюдать этот баланс. Когда эти три составляющие есть — все хорошо.
— Ты знаешь, я надеюсь. Мне как-то кажется, что это классика. Потому что моя главная мысль — сохранить отношения с ребенком, выстроить их правильно, чтобы всем было хорошо. А это, наверное, да, останется актуальным.
Девяносто процентов мам, которые приходят ко мне на консультацию, начинают с вопроса: «Что мне сделать, чтобы не стать такой, как моя мама?». Их тоже можно понять, потому что это те самые дети 90-х, которые вообще попали как кур в ощип со своим взрослением.
— А что ты скажешь насчет ценности этого опыта 90-х, какую-то ценность он вообще несет в себе?
— Это навык осторожности, безусловно. Другое дело — мы уже поняли, что мир изменился, и он гораздо более агрессивный, чем считалось. Сейчас должен появиться новый опыт — как научить ребенка в этом мире существовать. А научить можно не путем заключения его в клетку, а путем передачи инструментов, которые помогут ему самому себя защитить.
История с детской безопасностью сегодня — в интернете, на улице, в школе, и так далее — очень важна, детей надо учить этому. Поэтому ценность — да, конечно, есть.
Но на самом деле, когда говорят про 90-е, и особенно кричат: «Вы что, хотите обратно в 90-е?!», в какой-то момент я понимаю, что действительно порой туда хочу.
В 1996 году в той же школе в старой Зареке я выпустила класс, в котором из 20 человек 16 поступили на бюджетные места в вузы. Это тоже говорит об отношении тогда к молодежи, к школе и так далее. Вот этого из 90-х мне сейчас очень не хватает. Заботы о детях не в отчетах министерства, а на деле.
Может быть, я не права. Если кто-то сейчас может за государственный счет, за счет департаментов образования отправлять детей в поездки, походы и так далее, пусть мне скажут, я буду рада.
Вспоминаю свою работу в школе, когда мы были абсолютно свободны, могли экспериментировать — в хорошем смысле этого слова, не были так зажаты этими совершенно непонятными нормативами, которые с точки зрения здравого смысла вообще никак невозможно объяснить. Туда-то я как раз хочу. Это было первое поколение такой относительной свободы.
Кстати сказать, нынешние дети, вот удивительное дело, уже родившиеся при Путине, очень свободолюбивы. И они готовы бороться за свою свободу, знают, как это делать, готовы учить наизусть Конституцию и размахивать ей как флагом.
Тут, видишь, вопрос выживаемости. Любой вид будет выживать как может. И эти ребята, наши дети, понимают, что им, чтобы выжить, надо не соглашаться с какими-то нашими историями. И они не соглашаются. Учить родителей правильно к этому относиться — очень важно.
Ни один родитель не будет портить отношения со своим ребенком потому, что он его, например, не любит. Ни один родитель не ложится спать с мыслью о том, что бы завтра такого плохого своему ребенку сделать. Все, что происходит, — от большой любви и по незнанию.
— Да, научил. Ну, во-первых, я поняла, что нельзя сталкивать взрослых и детей в одной дискуссии по поводу того, как должны строиться их отношения.
На мой взгляд, очень большой вред этим отношениям наносит современная постановка проблемы: «Во всем виноваты ваши родители, они вам все неправильно дали, вы это теперь сбрасывайте». Среди моих знакомых есть мамы, чьи 23-летние дети, основные потребители подобных тренингов, начали говорить: «Все, детства у меня не было, ты меня всего лишила, и вообще мне сказали от тебя дистанцироваться, тогда у меня все в этой жизни получится». Это вредно не мамам, которые остаются без своих детей. Это вредно детям, которые остаются без опоры, поддержки и единственного в мире человека, который готов принять их всякими.
Ну и потом, при подписании договора, определении сроков работы над книгой я была уверена, что основной материал собран, его осталось только разложить по полочкам. Оказалось — ничего подобного. Для меня открытием был объем работы — что это так много, долго и, прямо скажем, очень непросто. Полтора месяца я точно не выходила из дома.
— А легко ли было принять на себя ответственность сформулировать именно так, употребить именно эти слова?
— Очень хороший вопрос. Я, правда, на эту тему думала. Имею ли я право, могу ли тиражировать все эти вещи? Но потом поняла: да. Потому что есть результат. А потом, это же дело каждого — принимать или не принимать.
Бывает по-разному. Не всегда родители, которые приходят на консультацию, соглашаются с тем, что я им говорю. Но я все же предлагаю попробовать: «Вы же действовали по-другому, у вас не получалось. Давайте теперь сделаем так, хуже же не будет».
Когда я говорю, что ребенка на консультацию с собой приводить не надо, некоторые родители очень удивляются. Наверное, думают, что я покажу, где у ребенка кнопка, на которую можно нажать, и он будет совсем другим. Нет. Бывает, что я и с детьми встречаюсь, когда у ребенка есть запрос. Но больше все-таки работаю с родителями.
Стоит только родителям что-то изменить, сразу начинают меняться их отношения с детьми. Если родители к этому готовы.
— Ты проверяла на ком-то написанные главы?
— Конечно! На людях, которым я доверяю. Есть у меня тетушка-филолог, которая тоже с детьми работала всю жизнь. Я отправила ей. Отправила своим друзьям в Ростове, тоже педагогам. Отправляла замечательной Светлане Бобровой, которой я очень признательна за то, что она познакомила меня с чудесной теорией Ньюфелда. Другое дело, что там далеко не все, мне показалось, надо использовать в полном объеме. Но тем не менее мне очень помогли эти все истории. Так что да, я давала им читать.
— Кому бы ты в первую очередь рекомендовала этот учебник?
— Родителям и тем, кто собирается ими стать, так как очень часто мы спохватываемся позже, чем надо бы. Кстати, с издательством изначально стоял вопрос о том, чтобы писать книжку для родителей подростков. Потом поняли: нет, нужно раньше. Конечно, никогда не поздно. Но лучше подходить к пубертату с каким-то багажом — прежде всего, багажом сложившихся отношений с ребенком. Ведь в этом возрасте, помимо всего, что вылазит благодаря гормонам, вылазят еще и все наши ошибки, которые мы делали с самого их рождения.
— Хочу уточнить, подойдет ли эта книга родителям, которые со своими родителями уже разобрались, или всем можно?
— Можно и нужно всем. Я не решаю проблем взрослых с их родителями, даже не берусь за это. А потом, я же говорю, у меня к этому свое отношение. Почему-то многие хотят найти причины самых разных проблем именно там. Может, их так учили…
Мы все образованные люди и понимаем, что если плохо, надо искать специалиста, который поможет. Я тоже обращалась к психологам. И каждый пытался найти причину в каких-то неправильных с их точки зрения отношениях с моими родителями. Мои родители — это образцово-показательная семья! Следующую книжку я напишу о них.
Это были идеальные отношения взрослого и ребенка — что у меня, что у моей младшей сестры. «Ты должна простить маму!» Мне не за что ее прощать, у меня нет повода обижаться на свою маму, и не было никогда. Конечно, были какие-то шероховатости в те же 14-15 лет, но они настолько быстро забывались, и у меня действительно нет ни одного повода.
— Я спрашиваю, потому что это действительно тренд.
— Очень неправильный. Конечно, бывают истории отношений из ряда вон выходящие. Но часто и это можно понять. Вот ваше поколение, кстати, взрослело как раз в тот самый период, когда родители проснулись в другой стране, растерялись, не знали, что с этим делать. Но нельзя так обесценивать положительную родительскую роль, как это происходит сейчас. Этот современный тренд подводит к тому, что мы критикуем все плохое, что родители сделали, и вообще не вспоминаем о том, что было и что-то хорошее.
У каждого человека должна быть опора. И, как правило, это близкие люди, семья, родители.
— Кому бы ты подарила свою книгу? Как жест.
— Подарила бы… да всем! Слушай, даже не знаю. Прежде всего, родителям детей, которые у меня учатся. Именно как жест. Потому что это родители, которые доверили нам самое дорогое, что у них есть. Им бы — с удовольствием и радостью.
Естественно, близким. Всем, кто поддерживал, верил в это дело, говорил: «Давай-давай, пиши!» А потом там в разделе благодарностей очень много фамилий. Начиная с родителей, с моей первой учительницы, директора школы. Это люди, которым я очень благодарна. Но самый большой список — это, конечно, фамилии моих учеников.
Я поняла, насколько у меня серьезный педагогический опыт, когда прочитала в соцсетях, что одна моя выпускница отметила серебряную свадьбу. Тут до меня дошло, сколько лет позади! (смеется). Но поскольку у меня самой еще дети маленькие, не приходится чувствовать себя… (подыскивает слово) бабушкой!
Поэтому подарила бы тем людям, которые были рядом все эти годы, благодаря которым, собственно, и получилась эта книжка.
Источник