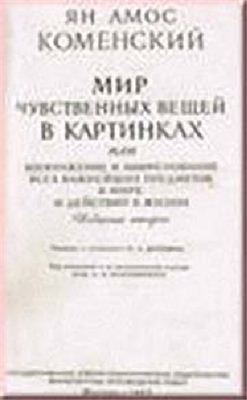Коменский мир чувственных вещей картинках
| [ —>Скачать с сервера (8.49 Mb) ] | 28.01.2015, 21:38 |
| «Чувственная картина мира» – книга великого педагога, «учителя народов» Яна Амоса Коменского, в русском переводе более известная как «Мир чувственных вещей в картинках». Она написана в 1658 г и является первым в истории иллюстрированным учебником, в котором рисунки стали частью учебных текстов. Объём книги – свыше трёхсот страниц. | |
Автор начинает свой учебник с Введения, которое построено в форме диалога учителя с учеником:
— Подойди сюда, мальчик! Научись мудрости!
— А что такое мудрость?
— Всё, что необходимо и достаточно, чтобы знать, понять и сделать правильный вывод.
— Кто будет учить меня?
— Я с Божьей помощью.
— Каким же образом?
— Я буду вести тебя через все вещи, я покажу тебе всё, я укажу, что тебе делать.
— Я готов идти с тобой. Веди и направляй меня во имя Бога!
Далее учитель рассказывает ребёнку о звуках речи и буквах алфавита, о Боге и созданном им мире, о небесной сфере и путешествиях по Земле, о стихиях, о растения и животных, о человеке, его теле и душе. В книге сообщается о различных сферах деятельности людей, о европейских станах, о государственной системе, а также об основных мировых религиях.
Автор заканчивает свою книгу словами: «Итак, ты увидел в краткой форме всё, что можешь себе представить, и узнал, как это назвать и написать благородными словами (латынью) и немецкой речью. Теперь продолжим путь, старательно изучая другие хорошие книги и извлекая из них пользу. Запомни: бойся Бога и обращайся к Нему, веря, что Он принесет тебе дух мудрости».
Презентация в формате *.ppsx (режим демонстрации) раскрывает содержание знаменитой книги, содержит примеры и иллюстрации из неё.
Внимание! Размещённая ниже флэш-версия не обновляется, не поддерживает анимацию и внутренние гиперссылки. Для комфортного пользования рекомендую скачать презентацию с сервера (ссылка вверху под названием презентации).
Источник
Коменский Я.А. Мир чувственных вещей в картинках
Первый в истории иллюстрированный учебник «Мир чувственных вещей в картинках» (1658), в различных вариантах использовался в европейских школах вплоть до конца 19 века.
Предисловие Коменского.
К читателю
Противоядием невежеству является образование, которым в школах должны быть напитаны души молодых людей. Но это образование должно быть истинным, полным и прочным. Оно будет истинным, если преподаются и изучаются предметы, только полезные для жизни, чтобы впоследствии не пришлось слышать таких жалоб: мы не знаем необходимого, ибо необходимого не изучали. Оно будет полным, если ум обрабатывается для мудрости, язык для красноречия, руки для искусного исполнения необходимых в жизни действий. Эти три вещи – разум, действие и речь – и есть соль жизни. Образование будет ясным, а потому и прочным и основательным, если все то, что преподается и изучается, будет не темным или путаным, но светлым, раздельным, расчлененным, словно пальцы руки. Основной предпосылкой для этого является требование, чтобы чувственные предметы были правильно представлены нашим чувствам, дабы они могли быть правильно восприняты. Я утверждаю и повторяю во всеуслышание, что это требование есть основа всего остального.
Ведь в самом деле мы не можем ни действовать, ни говорить разумно, если предварительно не поймем правильно ни того, что нужно делать, ни того, о чем нужно говорить. В нашем же разуме нет ничего такого, чего бы раньше не было бы в чувствах. Таким образом, старательно упражняя чувства в области правильного восприятия различий, существующих между предметами, мы положим основание и для всей мудрости, и для всего мудрого красноречия, и для всех разумных жизненных действий.
В школах, однако, этим обычно пренебрегают, и ученикам подаются для изучения предметы, которые они не понимают и которые неправильно представлены чувствам. Отсюда труд преподавания и изучения становится тягостным и приносит незначительные плоды.
И вот создается новое пособие для школ! Рисунки и наименования всех основных в мире предметов, а в жизни действий! Для того, чтобы вы, дорогие учителя, изучили их с вашими учениками, не тяготясь этим делом, а испытывая удовольствие, я в нескольких словах объясню, каких хороших результатов следует ожидать от этой работы.
Книга, как видите, небольшого объема. Однако она содержит краткий обзор всего мира и всего языка и наполнена рисунками, наименованиями и описаниями предметов.
1. Рисунки есть изображения всех видимых вещей (к которым присоединяются и невидимые в том виде, насколько это возможно) всего мира. Они даны в том же порядке, в котором изложены в Janua («Раскрытой двери языков»), и с такою полнотой, что ничего существенно необходимого, основного не опущено.
2. Наименование есть надписи и заголовки, выставленные над каждым рисунком. Они весь предмет обозначают общим термином.
3. Описания есть объяснения частей рисунка, выраженные специальными для каждого предмета названиями. При каждом предмете на рисунке и при каждом названии поставлена цифра, которое указывает, какое название какому предмету принадлежит.
Я надеюсь, что такая книга, построенная на подобных началах, принесет следующую пользу.
Во-первых, она привлечет к себе детей, так что они в школе уже будут видеть не муку для себя, а удовольствие. Ведь известно, что дети (почти с самого младенчества) любят рисунки и охотно рассматривают их. А изгнать из садов мудрости все, что пугает, есть дело в высшей степени полезное.
Во-вторых, эта книга послужит для возбуждения внимания детей, для приковывания его к предметам и все большего и большего заострения его, что очень важно.
Ведь чувства (а они главным образом и господствуют в детском возрасте, когда ум еще не поднимается до рассмотрения отвлеченных предметов) ищут для себя всегда объектов, в случае их отсутствия тупеют и в своей скуке обращаются то туда, то сюда. Когда же им представляются надлежащие объекты, они веселеют, оживляются и с удовольствием приковываются к ним, пока вещь не будет достаточно рассмотрена. Таким образом, эта книга сделает доброе дело детским умам (в особенности рассеянным), пленив их внимание и приготовляя их к более высоким занятиям.
Отсюда произойдет и третья польза, а именно: дети, которые будут привлечены к рисункам и внимание которых будет захвачено посредством игры и шутки, приобретут понятия о главнейших предметах в мире.
одним словом, эта книжка поможет тому, что с большим удовольствием будет изучаться и «Преддверие» и «Дверь языков», которые также назначены для дальнейшего обучения.
Если же кто-либо пожелает изложить эту книгу на родных языках, то она обещает от себя другие три вида пользы.
I. Она даст детям более легкий способ научиться читать, чем это было до сих пор. Это достигается прежде всего предпосланным книге символическим алфавитом, а именно: даны формы отдельных букв, а к ним изображения тех живых существ, издаваемый которыми звук стремиться передать та или иная буква. Благодаря этому изучающий азбуку ребенок при одном взгляде на животное легко вспомнит, как произносится соответствующая буква, и в конце концов его воображение, укрепленное упражнением, приведет его к быстрому запоминанию всех букв. Рассмотрев затем таблицу первоначальных слогов (включение которой в эту книгу мне, однако, не казалось необходимым.), учащийся сможет перейти к рассмотрению рисунков и напечатанных над ними надписей. Здесь снова самое рассматривание нарисованного предмета, вызвав в его уме наименование последнего, напомнит ему, как нужно прочитать заглавие рисунка. Пройдя таким образом всю книгу, учащийся невольно научится читать посредством одних только заголовков к рисункам, и при этом нужно отметить, не будут применены всюду практикующиеся длительные упражнения в складах, эта тяжкая мука детских умов, которая целиком будет устранена этим методом. Ибо повторное чтение книги, посредством все более полных, приложенных к рисункам описаний предметов, приведет учащегося к окончательному овладению искусством чтения.
II. Эта же книга, если проходить ее в национальных школах на родном языке, поможет изучению этого родного языка в самой его основе, так как через вышеуказанные описания предметов приведены слова и выражения всего языка в его наиболее целесообразном применении.
В конце ее можно присоединить краткую грамматику родного языка, которая ясно разбивает уже понятую речь на ее части, показывает изменения отдельных слов и подводит соединения под определенные правила.
III. Отсюда возникает новая выгода: этот самый перевод на родной язык поможет быстрейшему и более приятному изучению латинского языка. Как можно видеть в этом издании, вся книжка переведена так, что всюду родное слово соответствует по месту слову латинскому. И пусть на всем протяжении будет одна и та же книга, но только изложенная на двух языках, словно человек, одетый в двойную одежду. Можно было бы в конце присоединить и кой-какие наблюдения и наставления, но лишь в том случае, если латинский способ выражения отступает от родного. Ибо там, где нет никаких отступлений, нет никакой нужды и в наставлении.
Впрочем, как первые задания учащимся должны быть невелики и просты, то эту первую книгу наглядного обучения мы наполнили только начатками знания, т. е. самыми главными предметами и словами, являющимися базисом всего нашего языка и нашего разумения вещей. А кто будет стремиться (как и следует) к более совершенному описанию вещей и к более полному знанию языка, к большему просвещению своего ума, тот найдет все это в других книгах, перейти к которым будет нетрудно через эту нашу энциклопедию видимого мира.
Мне остается сказать несколько слов об удовольствии, которое доставит детям пользование этой книгой.
I. Дайте им ее в руки, чтобы они забавлялись, как они сами захотят, рассматриванием картинок, чтобы эти картинки стали им хорошо знакомы, даже дома, еще до посылки в школу.
II. После этого неоднократно спрашивайте их (в особенности уже в школе), какой предмет изображен на том или другом рисунке и как он называется. Пусть дети не видят ничего, чего бы не могли назвать, и пусть они ничего не называют, чего бы не могли показать.
III. Названные же вещи показывайте детям не только на рисунках, но и в реальности, например, члены тела, одежду, книги, дома и предметы домашнего обихода и т. д.
IV. Позволяйте им также срисовывать рисунки, если они захотят. Мало того, подстрекайте их к тому, чтобы они этого захотели. Во-первых, это также заострит их внимание к вещам. Во-вторых, они станут наблюдать взаимные пропорции между отдельными частями вещей. Наконец, они будут развивать этим ловкость рук, что полезно во многих отношениях.
V. Если некоторые вещи, о которых упоминается в этой книге, не могут быть представлены воочию, то было бы очень полезно преподнести их детям в реальности, – например, цвета, запахи, которые здесь не могут быть изображены чернилами. Поэтому было бы желательно, чтобы в каждой хорошей школе хранились заранее заготовленные редкие и дома не встречающиеся вещи, дабы всякий раз, когда о них нужно говорить ученикам, они вместе с тем могли бы быть им предоставлены.
Только тогда эта школа была бы действительно школой или театром видимого мира, преддверием школы интеллектуальной. Довольно, однако. Перейдем к самому делу!
Источник
Мир чувственных вещей в картинках, или изображение и наименование всех главнейших предметов в мире и действий в жизни
* ( Создание учебника — одно из тех, часто непреодолимых препятствий, на которых проверяется жизненность педагогических идей. Многие из них не рискуют испытать такой проверки, многие погибают, лишь только касаясь той сферы педагогической материализации, какую представляют собой учебники.
Педагогика знала множество самых различных учебников. Их история пока еще не написана. Разработка теории их создания остается и сегодня одной из наиболее актуальных педагогических задач. Большая часть этих учебников сходила с педагогической сцены, едва только взошедши на нее. Некоторые из них сопутствовали жизни одного-двух поколений. Немногим суждено было прожить долее. И из этих немногих лишь единицы обрели право прожить века, и прожить не только в национальном, но и в общечеловеческом сознании.
Такими были учебники Коменского, который открыл человечеству, стоящему на пороге нового времени и объединенному общностью ренессансных целей, помимо педагогической теории реализации этих целей педагогические средства — бесценные и бессмертные учебники: «Открытая дверь языков» («Jania linguarum et scientiarum omnium reserata»), «Мир чувственных вещей в картинках» («Orbis sensualium pictus») и др.
В отличие от многих отраслей науки в педагогике значимость научной деятельности определяется не только новизной и перспективностью научных идей, но и самой их реализацией в практическом педагогическом процессе. В этом суть подлинного педагогического творчества, первым образцом которого была деятельность Коменского, преобразовавшего все три ипостаси педагогического бытия — философию педагогики, ее теорию и ее практику. Труды Коменского — и в этом их характернейшая особенность,- будь то «Всеобщий совет об исправлении человеческих дел», «Великая дидактика» или его учебники, были подчинены решению именно этой триединой задачи. И хотя в той или иной его работе на первый план выходила одна из составляющих этого триединства, ее разработка была органически связана с двумя другими, более того, подчинена их решению.
Первый учебник Коменского «Открытая дверь языков» создавался в 1629-1631 гг. одновременно с «Материнской школой» и «Великой дидактикой». Основная идея этого учебника, в корне изменившего характер и методику изучения языка, сформулирована в следующих словах «Великой дидактики»: «Школы учат словам ранее вещей, так как в течение нескольких лет занимают ум словесными науками, а затем, наконец, не знаю когда, обучают реальным наукам — математике, физике и пр. Между тем как вещь есть сущность, а слово — одежда; вещь — зерно, а слово — кора и шелуха. Следовательно, то и другое нужно представить человеческому уму одновременно, но сперва вещь как объект не только познания, но и речи» (см. наст, изд., т. 1, С. 330).
Приведенные слова выражают лишь одну из идей «Великой дидактики», но в общем корпусе этих идей она занимала одно из центральных мест, заставляя кардинально пересмотреть весь процесс первоначального обучения — его цели, существо, методику и т. д.
Говоря о том, как в его время было поставлено это обучение, Коменский писал: «Учащихся задерживали на 5, 10, а то и больше лет на том, что несомненно можно воспринять человеку в течение года. Что можно было бы привить сознанию постепенно, то навязывалось, вдалбливалось и даже вколачивалось насильственно. Что можно было представить наглядно и ясно, то преподносилось темно, запутанно» (см. наст, изд., т. 1, с. 301-302).
Альтернатива подобной схоластической, словесной системе обучения, сдерживающей с ранних лет умственное развитие ребенка, была четко сформулирована Коменским. «Слова,- писал он в «Великой дидактике», — нужно преподавать и изучать не иначе как вместе с вещами. Нужно поэтому взять за правило: пусть каждый приучается выражать словами все, что понимает, и, наоборот, что он выражает словами, пусть научится понимать. Нельзя позволять кому-либо читать то, чего он не понимает, или рассуждать о том, чего он не может высказать словами. Ведь кто не может выразить ощущений духа, тот — статуя; кто болтает о том, чего он не понимает, тот — попугай. Мы же хотим формировать людей и хотим это сделать, идя кратчайшим путем, и мы этого достигнем, если вещи и речь будут идти в полном соответствии друг с другом» (см. наст, изд., т. 1, с. 378).
Уже только декларация этой идеи представляла чрезвычайную важность для педагогики. Но Коменский никогда не останавливался на середине пути. Он видел свою задачу в том, чтобы теоретически обосновать и практически воплотить эту (как и любую другую выдвинутую им) идею. Последнее и было сделано в его учебниках, в частности в первом из них — в «Открытой двери языков».
«Открытая дверь языков» представляла собой учебную книгу совершенно нового типа. Этот учебник латинского языка отвергал традиционный догматический путь изучения грамматики и синтаксиса, предлагая вместо него метод усвоения языка на основе познания элементов реального мира. Учебник, являвшийся своеобразной детской энциклопедией на латинском языке, содержал 8 тысяч латинских слов, из которых была составлена тысяча сравнительно простых предложений, сгруппированных в сто небольших, постепенно усложняющихся рассказов-статей о важнейших явлениях окружающей действительности.
Учебник Коменского, названный современниками золотой книгой, имел огромный успех. В короткое время он был переведен на 12 европейских языков и, кроме того, на арабский, персидский, турецкий и монгольский языки. На протяжении XVII и XVIII вв. «Открытая дверь языков» служила учебником латинского языка почти во всех странах. «Если бы Коменский, — писал видный философ XVII в. П. Бейль, — издал одну только эту книгу, он и тогда обессмертил бы свое имя».
Всемирная известность, пришедшая к Коменскому после выхода в свет первого учебника, не помешала автору испытывать неудовлетворенность проделанной работой. Коменский считал свой учебник далеко не совершенным, трудным для первоначального усвоения латинского языка. Это побудило его создать новый учебник — «Преддверие к открытой двери языков» («Januae linguarum reseratae Vestibulum, quo primum ad latinam linguam aditus tirunculis peperetur», 1633), который являлся подготовительным пособием для усвоения материалов ранее вышедшей книги.
Одновременно, развивая выдвинутую в «Великой дидактике» идею о концентричности обучения на разных ступенях образования — в материнской школе, в школе родного языка, в латинской школе и в академии («задачи и содержание школьного образования должны отличаться не материалом, а формой»), Коменский подготавливает учебники для третьей («Дворец») и четвертой («Сокровищница») ступеней обучения. Первая из этих книг — «Дворец» («Atrium rerum et linguarum ornamenta exhibens») — была издана в 1651 г. Вторая осталась незавершенной.
Задачи и содержание всех этих учебников были сформулированы уже в «Великой дидактике». «Преддверие», — писал Коменский в главе «Метод языков», — должно заключать в себе словарный материал для детского разговора в несколько сотен слов, связанных в кратких изречениях с присоединением сюда таблиц склонений и спряжений. «Дверь» должна заключать в себе все употребительные слова языка — около восьми тысяч, собранные в кратких выражениях, которыми изображаются самые вещи в их естественном виде. К этому нужно присоединить краткие и ясные грамматические правила, чрезвычайно точно указывающие, как надо писать слова этого языка, произносить их, образовывать и соединять. «Дворец» должен заключать в себе различные рассуждения о всевозможных вещах, наполненные всевозможными изящными фразами и выражениями, с отметками на полях, из каких авторов взяты отдельные выражения. В конце должны быть присоединены правила о том, как можно на тысячи ладов изменять и украшать фразы и выражения. Под «Сокровищницей» мы подразумеваем самые произведения классических авторов о всевозможных предметах, наиболее глубокие и яркие, с предпосланными им правилами относительно того, как подмечать и собирать выражения речи, отличающиеся особой силой и точной передачей «идиоматизмов» (что особенно важно)» (см. наст, изд., т. 1, с. 402).
Так задумывается и выстраивается знаменитый цикл учебников. Венцом его стал «Мир чувственных вещей в картинках», который сам Коменский называл путеводным факелом к «Преддверию» и «Открытой двери языков» (Comenius J. A. Opera didactica omnia. — Amsterdam, 1657, pars III, p. 803), «школой или театром видимого мира, преддверием школы интеллектуальной» (см. «Предисловие» к «Миру чувственных вещей в картинках».- В кн.: Коменский Я. А. Избр. пед. соч., т. III. — М., 1941).
«Мир чувственных вещей в картинках» — одно из наиболее поздних произведений Коменского — был написан в Шарош-Патаке в 1650-1654 гг. По справедливому замечанию видного исследователя творчества Коменского А. А. Красновского, под редакцией которого вышло советское издание учебника, «Мир в картинках» представляет собой наиболее отчетливый синтез педагогических воззрений Коменского в их практическом применении к системе обучения по его принципам» (Красновский А. А. «Мир чувственных вещей в картинках» Яна Амоса Коменского. — В кн.: Коменский Я. А. Избр. пед. соч., т. III. — М., 1941, с. 4).
Место «Мира в картинках» в общей системе творчества Коменского определено А. А. Красновским емко и точно. Но не менее важно и другое. Именно в этом небольшом учебнике, предназначенном для первоначального обучения, наиболее отчетливо был представлен Коменским синтез философско-педагогических идей, их теоретической разработки и практической реализации, т. е. то триединство задач подлинного педагогического творчества, о котором говорилось выше.
В основу учебника Коменского положены три глобальные философско- педагогические идеи, всецело сохраняющие свое значение до настоящего времени: познание, основанное на чувственном опыте в его органическом единстве с практикой и абстрактным мышлением; познание в процессе деятельности; познание, направленное на получение всестороннего, энциклопедического (пансофического, по терминологии Коменского) образования, поставленного на службу реальным потребностям человека и общества. («Пансофией», — писал Коменский, — я называю то, что могло бы служить живым отражением мира — отражением, где все было бы одно с другим связано, друг друга поддерживало, было бы друг для друга плодотворно» (см. наст, изд., т. 1,с. 496-497). Как тонко подметил видный советский историк педагогики В. Я. Струминский, в выдвинутой Коменским идее пансофической перестройки учебных планов и программ школы «нетрудно узнать получившую во всей европейской школе нового времени признание идею общего образования». Эта идея, отмечал Струминский, «в основном была усвоена передовой европейской педагогикой, хотя и не всегда находила достаточно творческое воплощение» (Струминский В. Я. Гениальный провозвестник педагогической науки в XVII в. славянский педагог — Я. А. Коменский. — Советская педагогика, 1957, № 7, с. 75).
Указанные три основные идеи, подробно развитые и обоснованные в «Великой дидактике», «Предвестнике всеобщей мудрости» и в ряде других произведений Коменского, лапидарно сформулированы в его «Предисловии» к «Миру в картинках»: 1) цель этого учебника — дать «краткий обзор всего мира и всего языка», с тем чтобы изучить предметы, «полезные для жизни»; 2) «основной предпосылкой для этого является требование, чтобы чувственные предметы были правильно представлены нашим чувствам, дабы они могли быть правильно восприняты. Я утверждаю и повторяю во всеуслышание, что это требование есть основа всего остального»; 3) образование «будет полным, если ум обрабатывается для мудрости, язык для красноречия, руки для искусного исполнения необходимых в жизни действий. Эти три вещи — разум, действие и речь — и есть соль жизни».
Переход от этих глобальных философско-педагогических задач к их материализации в легкой и живой ткани учебника был сложен и многоступенчат. Он лежал на пути теоретического осмысления собственно педагогических, дидактических и методических принципов, средств и способов построения учебника и первоначального курса обучения в целом. «Предисловие» Коменского к «Миру в картинках», естественно, не могло отразить весь этот путь. Но отдельные его вехи оно отразило отчетливо.
Первейшая задача, которая встает перед каждым автором учебника, — это уяснение различия между научным и педагогическим изложением того или иного предмета, выбор оптимального способа именно педагогического его изложения, т. е. то, что К. Д. Ушинский называл педагогической переработкой науки. «Над этой переработкой наук в учебники,- отмечал К. Д. Ушинский, — отразилась вся история педагогических систем и педагогических рассуждений». Начало такой переработки, по мнению Ушинского, было положено «Миром в картинках» Коменского (Ушинский К. Д. Собр. соч., т. 10. — М., 1950, с. 434). Иными словами, «Мир в картинках» был, по существу, первым учебником в собственно педагогическом смысле этого слова. Более того, он был первым в истории человечества иллюстрированным учебником.
Осознавал ли Коменский существо и важность отмеченной выше задачи и роль «Мира в картинках» в ее решении? Ответ на этот вопрос будет ясен из сопоставления двух приводимых ниже цитат. «В прежнее время, — писал К. Д. Ушинский, — вносили в школу полную систему науки, и потому часто то, что может быть понято только развитым рассудком, вступившим уже в полные права свои, усваивалось механически и, наоборот, юношу, уже развитого самой природой, заставляли зубрить бессмысленнейшим способом» (там же). «И вот, — отмечал Коменский в «Предисловии» к «Миру в картинках», — создается новое пособие для школ. Книга, как видите, небольшого объема. Однако она содержит краткий обзор всего мира и всего языка и наполнена рисунками, наименованиями и описаниями предметов. Я надеюсь, — продолжал Коменский, — что такая книга, построенная на подобных началах, принесет следующую пользу. Во-первых, она привлечет к себе детей, так что они в школе будут уже видеть не муку для себя, а удовольствие. Во-вторых, эта книга послужит для возбуждения внимания детей, для приковывания его к предметам и все большего и большего заострения его. приготовляя их к более высоким занятиям. Отсюда произойдет и третья польза, а именно: дети, которые будут привлечены к рисункам и внимание которых будет захвачено посредством игры и шутки, приобретут понятия о главнейших предметах в мире».
Таков замысел учебника Коменского: чувственное и действенное познание предметов и явлений реального мира (и на этой основе усвоение языка) как исток и предпосылка «более высоких занятий». Соответствующими были дидактические пути и средства реализации этого замысла, сориентированные на ту ступень обучения, для которой был назначен учебник: отбор того, что сегодня входит в понятие содержание образования; «педагогическая переработка» этого содержания в доступный раннему детскому возрасту образовательный материал (по сути — атомарное расчленение реального мира в 2000 словах-понятиях 150 статей, составляющих учебник, чтобы «все то, что преподается и изучается» было «не темным и путанным, но светлым, разделенным, расчлененным, словно пальцы руки», и в итоге органический синтез этих элементов в общую картину мира, которую воссоздает учебник); игра как ведущий вид познавательной деятельности на ступени первоначального обучения; постепенное формирование отвлеченных понятий и способности к сознательному действию на основе чувственного опыта (ибо «старательно упражняя чувства в области правильного восприятия различий, существующих между предметами, мы положим основание и для всей мудрости, и для всего мудрого красноречия, и для всех разумных жизненных действий»); наконец, наглядность обучения (не в виде более или менее вразумительных настенных или иных картинок, а в самом широком и полном, истинном смысле этого слова, сформулированном Коменским в его знаменитом «золотом правиле»: «Пусть будет для учащих золотым правилом: все, что только можно, предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое — для восприятия зрением, слышимое — слухом, запахи — обонянием, подлежащее вкусу — вкусом, доступное осязанию — путем осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими чувствами» (см. наст, изд., т. 1, с. 384).
«Мир чувственных вещей в картинках» Коменский в своем «Предисловии» называл «Энциклопедией видимого мира». (Отсюда, может быть, некоторая, несколько неточная модернизация названия его учебника в немецких изданиях — «Sichbare Welt», «Видимый мир», перешедшая позднее и в русскую педагогическую литературу.) Коменский неоднократно, в частности в «Великой дидактике», подчеркивал важность зрительных восприятий, отмечая, что «зрение среди чувств занимает самое выдающееся место» (см. наст, изд., т. 1, с. 447). Однако, как мы видели, его понимание наглядности обучения вовсе не тождественно созерцательности.
Раскрывая в «Предисловии» к «Миру в картинках» некоторые методические приемы работы с этим учебником, Коменский предупреждал учителей: «. Вещи показывайте детям не только на рисунках, но и в реальности, например, члены тела, одежду, книги, дома и предметы домашнего обихода и т. д. . Если некоторые вещи, о которых упоминается в этой книге, не могут быть представлены воочию, то было бы очень полезно предподнести их детям в реальности, — например, цвета, запахи, которые здесь не могут быть изображены чернилами. Поэтому было бы желательно, чтобы в каждой хорошей школе хранились заранее заготовленные редкие и дома не встречающиеся вещи, дабы всякий раз, когда о них нужно говорить ученикам, они, вместе с тем, могли бы быть им представлены».
Метод обучения — то последнее звено педагогического процесса, от которого в итоге зависит, состоится или не состоится этот процесс. В современной Коменскому школе метод обучения, по его словам, был «настолько запутан, что всякий желающий пройти через сад науки наталкивается на тысячи и тысячи поворотов, изгибов, околиц и так заморочит себе голову, что едва отыщет выход к ясному свету мудрости; большинство же неизбежно застревает в пещерах суемудрия и находит в них как бы свою могилу» (см. наст, т., с. 109). В «Мире в картинках» Коменский реализовал совершенно иной, новаторский, как он называл, «естественный метод» обучения, основанный на самостоятельной, творческой познавательной деятельности ребенка.
«Предписываемые и применяемые мной правила, — писал об этом методе Коменский, — суть те же, которые предписывает сама природа, именно, чтобы все делалось посредством теории, практики и применения, и притом так, чтобы каждый ученик все изучал сам, собственными чувствами, пробовал все произносить и делать и начинал все применять. У своих учеников я всегда развиваю самостоятельность в наблюдении, в речи, в практике и в применении, как единственную основу для достижения прочного знания, добродетели и, наконец, блаженства» (см. наст, изд., т. 1, с. 178).
В конкретной методике работы с «Миром в картинках», с которой в «Предисловии» Коменский знакомил родителей и учителей, эти его идеи были сформулированы следующим образом: дайте книгу детям «в руки, чтобы они забавлялись, как они сами захотят, рассматриванием картинок, эти картинки стали им хорошо знакомы, даже дома, до посылки в школу. После неоднократно спрашивайте их (в особенности уже в школе), какой предмет изображен на том или ином рисунке и как он называется. Позволяйте также срисовывать рисунки, если они захотят. Мало того, подстрекайте их к тому, чтобы они этого захотели. Во-первых, это также заострит их внимание к вещам. Во-вторых, они станут наблюдать взаимные пропорции между отдельными частями вещей. Наконец, они будут развивать этим ловкость рук, что полезно во многих отношениях».
Так предлагал Коменский осуществлять одну из важнейших и излюбленных своих идей — самостоятельность познавательной деятельности ребенка в процессе его общения с «Миром в картинках».
Что же касается последнего тезиса приведенной цитаты относительно тех результатов, которые может дать «срисовывание рисунков» учебника, то здесь, как верно подметил в упомянутой выше работе А. А. Красновский, кратко, но отчетливо изложены основы «теории педагогического значения рисования» (Красновский А. А. Указ. соч., с. 16). «Нельзя не отметить, — писал там же Красновский, — одной весьма ценной в педагогическом отношении черты рисунков (к «Миру в картинках». — Э. Д.), сделанных, как известно, рукой самого Коменского. Начиная с иллюстраций к живой азбуке, через всю книгу проходит рисунок, изображающий вещи, предметы, явления, действия людей не в статическом состоянии, а в их взаимоотношении и, насколько это можно передать на рисунке, в динамике. Некоторые из рисунков изумительны по передаче ими напряжения, движения. Эта напряженность и динамика, передаваемые рисунком, как раз и представляют то его свойство, которое возбуждает, в особенности у юного зрителя, наибольший интерес и творческую фантазию, чтобы не просто воспринять рисунок, но и дополнить его» (там же).
Выше уже отмечалось, что в «Великой дидактике», в учебнике «Открытая дверь языков» и позже в ряде других трудов Коменский разработал, обосновал и осуществил на практике принципиально новый метод обучения языкам, в основе которого лежало требование: «Изучение языков должно идти параллельно с изучением вещей» (см. наст, изд., т. 1, с. 398). В «Мире в картинках» Коменский сделал еще один, значительнейший шаг вперед в развитии этого метода, предложив новую методику обучения азбуке, в корне отличную от традиционного механического усвоения алфавита с помощью бессмысленного и бесконечно повторяющегося чтения слогов.
В «Предисловии» к «Миру в картинках», которое называлось «живой азбукой» или «символическим алфавитом», Коменский следующим образом описывал эту методику: книга, писал он, «даст детям более легкий способ научиться читать, чем это было до сих пор. Это достигается прежде всего предпосланным книге символическим алфавитом, а именно: даны формы отдельных букв, а к ним изображения тех живых существ, издаваемый которыми звук стремится передать та или иная буква. Благодаря этому изучающий азбуку ребенок при одном взгляде на животное легко вспомнит, как произносится соответствующая буква, и в конце концов его воображение, укрепленное упражнением, приведет его к быстрому запоминанию всех букв. Самое рассматривание нарисованного предмета, вызвав в его уме наименование последнего, напомнит ему, как нужно прочитать заглавие рисунка. Пройдя таким образом всю книгу, учащиеся невольно научатся читать посредством одних только заголовков к рисункам, и при этом нужно отметить, не будут применены всюду практикующиеся длительные упражнения в складах, эта тяжкая мука детских умов, которая целиком будет устранена этим методом. И то повторное чтение книги, посредством все более полных, приложенных к рисункам описаний предметов, приведет учащегося к окончательному овладению искусством чтения».
Как отметил А. А. Красновский, «в истории обучения первоначальной грамоте эта азбука Коменского сыграла исключительную роль. Она является родоначальницей всего последующего развития звукового метода обучения грамоте» (Красновский А. А. Указ. соч., с. 9).
В книге «Школа-игра» (1656), созданной также в Шарош-Патаке, в которой Коменский дал образцы драматизации учебного материала, он так описывает процесс обучения по «живой азбуке»:
«Учитель. Подойдите, детки, мы позабавимся этой картинкой.
Ученик. Охотно, господин учитель.
Учитель (показывая первую картинку). Что это?
Учитель. Правильно; но какая птица?
Другой ученик. Не знаю.
Учитель. Я вам скажу. Это ворон. А ты знаешь, как ворон кричит?
Источник