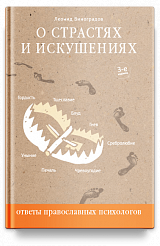Ответы на вопросы
В чем главное отличие депрессии от греховной страсти уныния?
Уныние – это, как Вы правильно сказали, греховная страсть. А депрессия есть болезнь. Правда, в некоторых случаях болезнь может быть вызвана пленением души этой греховной страстью. В других случаях депрессия обусловлена биологическими факторами (изменение биохимии мозга и др.).
Поясните суть термина «циклотимия»
Циклотимией обозначаются состояния нестабильности настроения с повторяющимися эпизодами неглубоких депрессий и немотивированных подъемов настроения (гипоманий).
Сын вот уже около месяца пребывает в тяжелом унынии. Почти ничего не ест, плохо спит. Что мне делать?
Вашему сыну, судя по описанному Вами его психическому состоянию, нужна помощь врача-психиатра. Чем быстрее вы обратитесь на прием, тем будет лучше.
Душевная жизнь человека во многом зависит от внешних условий его проживания. С середины XX века на человечество обрушился целый шквал невиданных доселе явлений, которые наверняка повлияли на психическое состояние, как отдельных людей, так и общества в целом. Каким образом это отразилось на людях? Могли бы выделить ключевые моменты?
Думается, что во все времена были и эпидемии, и войны, и голод, и болезни, и ложь, и предательство. И трудно сопоставить, к примеру, в какой степени нынешнее время тревожнее и беспокойнее эпохи царствования Ивана Грозного. Однако, безусловно, нынешнее время по-своему особенное. Понятия «стресс», «невроз», «наркомания» и т.д., пожалуй, неизвестны лишь младенцу. Психиатры констатируют небывалый рост психической патологии, и в основном этот рост обусловлен широким распространением так называемых «пограничных» (на грани нормы и патологии) заболеваний, или как их попросту называют – болезни на нервной почве. Один московский духовник справедливо сравнивает душевное состояние современного человека с вдребезги разбитым кувшином. И вот люди ходят с грудой осколков в душе и ранят себя и окружающих. Безудержный рост психических заболеваний порожден не только перегрузками, лавиной информации, стрессами, но прежде всего он объясним бездуховностью, потерей многими людьми истинного смысла жизни. А внешние условия, конечно, фактор существенный, но, поверьте, не определяющий.
Всегда ли можно проследить, как развилась та или иная болезнь, что стало ее причиной?
В ряде случаев это сделать довольно легко. Предположим, человек совершил какой-либо грех, сделал или сказал что-либо мерзкое. И как следствие – муки совести (если она еще не убита): нет настроения, сна, аппетита. Врач поставит диагноз «депрессия». Однако понятно, что корни ее греховные. Но бывает и другой вид депрессивных расстройств, и связан он с изменением биологических аминов (адреналин, серотонин и др.) в тканевых структурах мозга. Эти обстоятельства очень существенные, и их важно осознавать.
Многих из нас щемящее чувство «заброшенности и покинутости» всем миром не оставляет даже в толпе. Что мешает нам жить среди людей? Каковы же причины возникновения такого чувства, как одиночество?
Каждому из нас надо не забывать, что нет мгновения, когда бы мы были без Бога. Господь всегда рядом. Он ожидает нашего покаяния, видит наши нужды, скорби и не даст нам потерпеть выше сил. Я хочу сказать и о том, что так много людей нуждаются в добром слове, человеческом участии, молитве. Сколько горя вокруг. Если есть силы и желание, то никакого одиночества и не будет. Можно помочь многодетной семье управиться с детьми, поухаживать за больным, напоить друзей чаем. Да мало ли еще добрых дел.
Как реагировать человеку на вызов боли и страдания современной жестокой эпохи? Могут ли боль и страдание стать шансом для человека?
И боль, и страдание каждого из нас могут приблизить к Богу. В том случае если мы ропотом, нетерпением и унынием не разоряем тот духовный плод, ради которого и посланы эти скорби. Надо быть христианином. Это главное.
Как Вы лечите депрессию?
Мы ищем, прежде всего, духовные истоки, причину депрессии. Выясняем, почему у человека неправильно выстроена шкала жизненных ценностей. Подход сугубо индивидуальный. Например, один пациент, страдающий депрессией, признался: «Меня губит зависть. Как увижу, что у соседа или знакомого что-нибудь лучшее, так и места себе не могу найти, словно сгораю изнутри». Что же от такого недуга мне ему назначить таблетки три раза в день?
Или, допустим, вас обидел друг. И, казалось бы, вы справедливо гневаетесь на него. По вашему мнению, друг поступил скверно и заслуживает лишь осуждения. Но понаблюдайте в момент этих размышлений за собой. И что же? Лицо напряжено, сердце «выпрыгивает» из груди, голова будто сдавлена стальным обручем. На первый взгляд – странно. Виноват-то другой (третий, пятый), а неприятные ощущения испытываете вы сами. Здесь тоже не поможет медикаментозный метод лечения.
Практика показывает, что облегчение у пациента наступает лишь тогда, когда заходит разговор о душе, о покаянии. С согласия пациента и по его желанию мы пытаемся оценивать симптомы болезни с духовных позиций. В результате у человека может измениться позиция. Он учится правильно реагировать. Большая, трудная работа – осмыслить свой духовный мир, ценности, взгляды.
Если же речь идет о тяжелой форме заболевания, когда помочь может только назначенное врачом лечение – прием психотропных препаратов, возможно даже госпитализация, то я рекомендую такие меры.
Какой должна быть последовательность медицинской и духовной помощи при психических расстройствах? Чему уделять большее внимание?
Все в свое время. Если мы говорим о психозах (расстройствах, сопровождающихся бредом, галлюцинациями, тяжелой депрессией и проч. – Ред.), то на первом этапе должна быть, конечно, врачебная помощь. Врач должен попытаться устранить основные симптомы заболевания. По мере выздоровления преобладает уже психологическая и духовная помощь, а медицинская будет сокращаться. Динамика именно такая.
В научных трудах, посвященных депрессии, ничего не говорится о грехе. А ведь именно он, в большинстве случаев, становится причиной возникновения недуга. Так ли это?
Это именно так. Причем до научных психиатрических наблюдений касательно происхождения депрессии святые отцы досконально изучили этот недуг. К примеру, они точно и достоверно описали причины возникновения невротической депрессии, определив ее греховными страстями уныния и печали. Первой страсти, зачастую, предшествует леность, праздность, самовлюбленность. Вторая – это всегда сожаление о потерянном или не сбывшемся.
Уныние и печаль, как правило, подстерегают неокрепших в вере. Эти страсти порой хозяйничают в душе тех, кто, отвергая Небесное, накрепко прилепился к земному. Собственно говоря, это закономерное следствие философии гедонизма, жизни «в свое удовольствие».
Вы говорите о борьбе с депрессией как о духовном подвиге. Как же сразить этот недуг наповал?
Как врач, я конечно облегчаю страдания пациентов медикаментами, беседами, да и просто человеческим участием. Признаться, удовлетворение от приема больного наступает лишь тогда, когда заходит разговор о душе, о вере и покаянии. С согласия пациента мы пытаемся оценивать симптомы болезни с духовных позиций. Ведь единственно правильный путь к исцелению от нервности, уныния, печали и обретению душевного мира лежит через истинную Православную веру. Поэтому пациентам я рекомендую регулярно посещать богослужения, исповедоваться и причащаться.
Несомненно, важны непродолжительный отдых, физическая активность, разумное и душеполезное общение. Нелишне будет пройти и курс общеукрепляющей терапии.
Бывает, что депрессивные состояния, нервный срыв приводят человека к мыслям о самоубийстве. Что Вы посоветуете человеку, который, может быть, стоит на грани суицида?
Это очень ответственно. Но посоветую перекреститься с верой и сказать: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного! И пойти в храм, и все свои переживания без утайки, искренне рассказать священнику на исповеди. Если говорить о скорой помощи – она вот именно такая. Если сказать о проблеме суицида в целом, то известно, что только 10 % среди самоубийц – психически больные люди. А 90 % – это душевно здоровые, но духовно глубоко поврежденные люди. А вы знаете, сколько их? 35–36 человек на каждые 100 тысяч населения! То есть десятки тысяч, это город самоубийц ежегодно! Это мы говорим о завершенных суицидах. А есть еще суициды незавершенные, и их намного больше.
Можно ли самостоятельно принимать антидепрессанты?
Нет. Этого делать не нужно. Следует проконсультироваться с врачом. Лечение может подобрать и назначить только специалист. Не стоит заниматься самолечением.
В чем Вы видите духовное значение депрессии?
В перемене жизни, в покаянии и обращении ко Христу.
Расскажите о панических расстройствах.
Паническое расстройство – это распространенное тревожное расстройство, которому подвержены приблизительно 4% населения. У женщин эта болезнь наблюдается в шесть раз чаще, чем у мужчин. Точная причина возникновения панического расстройства до сих пор недостаточно выяснена, однако известно, что при паническом расстройстве наблюдаются изменения в центральной нервной системе, связанные с обменом таких веществ, как серотонин и норадреналин. По-видимому, существенная роль при возникновении болезни принадлежит наследственной предрасположенности. У близких родственников людей, подверженных паническому расстройству, часто наблюдаются аналогичные симптомы или проявления других тревожных расстройств. Начало панических расстройств очень часто связано с психоэмоциональными стрессами, нервным перенапряжением.
Источник: Уныние и депрессия. Сходства, различия, врачевание. 3-е изд. доп. и перераб. – М.: «МБЦ прп. Серафима Саровского», «Омега», 2011. – 240 с.
Источник
Как отличить уныние от депрессии?
Не бежать от трудностей жизни
– Наталия Владимировна, легко ли психологу отличить уныние, когда достаточно психотерапевтической помощи, от депрессии, когда без лекарств не обойтись и надо перенаправить человека к психиатру?
– Опыт показывает, что есть состояния, при которых необходима помощь психиатра и невозможно обойтись без медикаментозной поддержки. Когда на прием приходит человек крайне подавленный, который тебя практически не слышит, не воспринимает, смотрит в никуда – лицо похоже на застывшую маску скорби, – то в данной ситуации участие психиатра часто необходимо. Такие состояния требуют тонкой профессиональной диагностики.
Мы, психологи, должны понимать, где заканчивается наша компетенция и где начинается компетенция врачей. Это же относится и к психиатрам. Ситуации, связанные с невротическими искажениями личности, коммуникацией, самооценкой, самоотношением, – иными словами, отношением с самим собой и с миром, – невозможно решить с помощью фармакологии, тут необходим психолог.
Очень важно выявить причину того состояния, которое беспокоит человека, и работать прежде всего с причиной, а не с ее следствиями. Подавленное состояние не всегда связано с клинической депрессией, оно может быть результатом тяжелой душевной травмы. Бывает, что в жизни все рушится, и человек не выдерживает ударов судьбы, проваливается в депрессивное состояние. У меня было много клиентов, которые именно так реагировали на испытания. Это могут быть самые разные ситуации – от переезда в другой город до потери близкого. Реакция человека зависит от многих факторов: устойчивости нервной системы, семейной ситуации (благополучна она или нет), наличия поддержки и жизненных опор. Большую роль играет и фактор веры. То есть работают и наследственные уровни, и социальные, и личностные, и духовные.

Я консультировала недавно одну женщину. На нее свалилось невероятное количество испытаний: супруг подал на развод, дочь заболела, квартиру обокрали, на работе начались проблемы. Весь ее уклад обвалился, жизнь превратилась в руины. Она пришла ко мне в очень тяжелом состоянии. Я направила ее на консультацию к психиатру, с которым давно и плодотворно сотрудничаю. Но в данном случае курс антидепрессантов был сведен к минимуму. Понадобилось сравнительно немного времени, чтобы она вышла из депрессии. Ей было важно найти новые точки опоры в сложившейся ситуации, не выживать, а жить, и жить плодотворно. Когда ей удалось понять и принять то, что произошло, когда стало понятно, что старого не вернуть, когда она обрела новые, значимые для нее смыслы, стало ясно, что терапия закончена.
Есть точка зрения, что человек должен сам преодолевать те испытания, которые ставит перед ним жизнь. Австрийский психиатр Виктор Франкл говорил о том, что человек должен не бежать от трудностей жизни, а встречаться с ними лицом к лицу, говорить жизни «да». Я полностью разделяю этот подход, он мне очень близок. Человек, сталкиваясь с испытаниями и преодолевая их, все больше обретает самого себя, все в большей степени становится личностью. Но бывают особые ситуации, когда просто нет внутренних ресурсов для борьбы. Перед психологами и психиатрами стоит не только профессиональная, но и нравственная задача: с одной стороны, облегчить страдания человека, с другой стороны, помочь ему вырасти личностно, духовно. Это очень важный и сложный для каждого человека вызов, который надо принимать серьезно и ответственно. Поиск ответов на эти вопросы должен объединить сегодня и психологов, и психиатров, и священников в общем пространстве диалога. Поле дискуссии должно охватывать разные уровни человеческого бытия: и телесность (физиологию, работу центральной нервной системы и прочее), и душу (сознание, чувства, волю), и дух (веру, любовь, смысл).
Если передо мной как психологом стоит сложная духовно-нравственная задача моего клиента, я всегда советуюсь со своим духовником, поскольку психология не должна заниматься духовными проблемами, точнее – не должна решать их. Это уже прерогатива священника. Мои знакомые психиатры действуют в похожих ситуациях по такому же принципу, и мне кажется, что это правильно, поскольку наша общая задача – помочь человеку двигаться по пути спасения, а не застрять где-то на повороте судьбы.
Если нам приходится иметь дело с клинической ситуацией, с клиническим диагнозом, то синергийный подход тем более важен. Задача психиатра тогда состоит в диагностике, в подборе медикаментов для нормализации процессов мозговой деятельности. Задача психолога – выявить психологические проблемы, усугубляющие ситуацию, и искать внутренние опоры, помогающие человеку справляться со своим состоянием.
Могу для примера вспомнить одну пациентку, у которой был маниакально-депрессивный психоз. Ее вел очень хороший психиатр, который подобрал точную медикаментозную терапию. Глобально наша задача состояла в том, чтобы пациентка научилась жить рядом с болезнью, а не внутри нее. Мы затрагивали разные аспекты ее жизни, ее отношения с родителями, ее самооценку, трудности коммуникации и так далее.
В результате, когда она в очередной раз вошла в фазу мании (испытывала подъем, была уверена в себе и своих силах, легко и творчески общалась и работала – благодаря удачно подобранной врачом терапии она не «улетала» в состояние, когда море по колено), то сказала: «Пока я на подъеме, мне надо достичь определенных реальных результатов, чтобы во время депрессии, когда мне будет казаться, что я ничего не могу и ничего не стою, у меня были объективные доказательства моей состоятельности».
Она научилась распознавать свои «взлеты», то есть периоды мании, и свои «падения», то есть периоды депрессии, стала готовиться к ним, перестала ставить перед собой невыполнимые задачи, но старалась достичь результатов, которые были бы для нее реальными. Таким образом, ее жизнь не просто вошла в приемлемую колею – она невероятно выросла как личность, стала более взрослой, мужественной, ответственной. Более того, она пришла в Церковь, и ее жизнь обрела духовный горизонт.

Иметь или быть
– К вам часто приходят люди, которые считают, что у них просто тоска, когда на самом деле у них клиническая депрессия?
– Редко. Обычно с клинической депрессией я сталкиваюсь, когда психиатр направляет ко мне своего пациента, потому что ему наряду с медикаментозным лечением нужна помощь психолога. Бывает, конечно, что люди сами ставят себе диагноз, думают, что у них психологические проблемы, но уже при первом общении становится понятно, что это болезнь.
Вообще слово «депрессия» сегодня употребляется очень широко. Помню, как-то раздался телефонный звонок, и молодой мужчина звонким голосом сообщил, что крайне нуждается в моей помощи. Я спросила: «А на что вы жалуетесь?» Он ответил бодро и почти весело: «У меня депрессия». Этот случай можно отнести к разряду шуток.
Конечно, люди чаще путают депрессию с апатией, тоской и так далее. Как правило, за этой тоской стоят экзистенциальные проблемы: потеря смысла собственной жизни, потеря контакта с самим собой на глубинном уровне. Современный человек предпочитает жить на поверхности, особо не погружаясь в глубину. Ему кажется, что внешняя жизнь со всеми ее разнообразными атрибутами и есть то, ради чего он существует на этой земле. Такая поверхностная жизнь с неизбежностью будет порождать глубинную неосознаваемую тревогу. Именно от нее, от этой глубинной тревоги, человек пытается убежать. Он ищет все новых развлечений, отвлечений, но шум жизни не заглушит экзистенциального зова его души.
Только отвечая на вопрос «Зачем я живу?», человек начинает двигаться в направлении духовных ценностей, которые открывают ему иные горизонты и масштабы бытия. Мы живем в эпоху «общества потребления». Этот термин принадлежит выдающемуся психологу Эриху Фромму, автору книги с блестящим названием «Иметь или быть?».
«Иметь» – это значит обладать, завоевывать, покупать, продавать, властвовать, то есть воспринимать мир как вещь, полезную или бесполезную, удобную или не очень, красивую или безобразную. «Быть» – это значит любить, создавать, сострадать, творить, радовать и радоваться, быть открытым всей полноте жизни и благодарным за то, что есть в данный момент. Так вот, сегодня желание «быть» – редкое явление, в основном люди живут в логике «иметь».
Кстати, с этим выбором связаны многие духовные и психологические кризисы, в частности, кризис среднего возраста. Пока человек молод, полон сил и энергии, амбиций и планов на будущее, он «завоевывает мир»: делает карьеру, покупает квартиру, дом, машину, обзаводится семьей, ездит отдыхать. Но с каждым годом все яснее понимает, что никакие достижения не сделают его счастливее. Мир в кармане, а счастья нет.
Я недавно консультировала одну очень преуспевающую женщину. Она сделала прекрасную карьеру, вырастила замечательных детей. Но запрос был серьезным – тоска, глубинная тревога, ощущение бессмысленности жизни, потеря связи с собой. Она назвала это состояние депрессией, однако в данном случае речь шла вовсе не о депрессии, а именно об экзистенциальном кризисе. При этом у нее был чудовищный страх стать бедной, именно поэтому она должна была все время работать, чтобы зарабатывать все больше и больше. Дело в том, что ее детство пришлось на девяностые годы, семья голодала, отца уволили с работы, он стал пить и вскоре умер. Ее мать крутилась как белка в колесе, смогла поднять обеих дочерей и дать им хорошее образование.
Самый пик трудностей пришелся на подростковый возраст моей клиентки, и ужас бедности, страх голода застрял в ней на долгие годы. Всю свою сознательную жизнь она стремилась обезопасить себя и свою семью от бед и страданий, но в результате стала защищаться от самой жизни и потеряла контакт с ней. Речь идет не о внешних атрибутах жизни, а о том глубинном бытии, контакт с которым позволяет нам чувствовать себя живыми, а значит, способными радоваться, благодарить, любить, сострадать, творить.
Я помню один очень яркий момент в работе с этой женщиной. Она рассказывала о том, что в класс к ее сыну попала девочка-инвалид, у которой была «сухая» ручка. Моя клиентка негодовала и возмущалась мамой этой девочки: «Неужели она не понимает, что ставит под удар не только своего ребенка, но и всех наших детей? Ведь это же страшное уродство. Почему мой ребенок должен видеть такое?!» Ее попытка защитить себя от всего, что пугало и тревожило, плавно перенеслась и на сына, его она тоже захотела отгородить от всего, что могло испугать или потревожить. Ей не приходило в голову, что такой опыт встречи с чужой болью, чужим страданием является уникальной возможностью для ее ребенка и для всех детей в классе стать более человечными, сострадающими. Я попыталась объяснить ей, как повезло детям, в том числе ее сыну, что в их классе есть такая девочка. Умом она, пожалуй, меня поняла, но не сердцем. На уровне души она отвергала любой дискомфорт. Все, что тревожило, заставляло ее бояться. Но при этом она не могла преодолеть в себе самой все тот же страх и все ту же тревогу, от которых безуспешно пыталась убежать.
Счастье как побочный продукт
– Удается ли повернуть к глубоким экзистенциальным вопросам людей, настроенных на карьеру, на успех?
– Как правило, удается, но при определенных условиях. Одна из главных психологических иллюзий современного человека состоит в том, что он должен быть счастлив во что бы то ни стало, и всю жизнь он начинает строить таким образом, чтобы осуществить эту мечту. Ему кажется, что каждый шаг, каждый успех, каждое достижение – лишь ступенька, приближающая его к вершине счастья, а любая неудача, любой, даже мелкий промах отводят его от этой вожделенной мечты. Но опыт показывает, что это абсолютная иллюзия, мираж. Счастье – всегда «побочный» продукт, мгновение, озаряющее человека в момент удачи. Устойчивой может быть только радость.
Радость – особое состояние, наполняющее нашу душу, когда мы ощущаем присутствие Бога, это глубокое чувство гармонии с миром, с собой и с другими людьми. Однако человек, целью которого является карьера, успех, редко способен радоваться. Речь не идет о бесконечной череде веселых празднеств, шум которых часто лишь маскирует внутреннее одиночество и пустоту. Радость – это глубокое, светлое чувство связи с миром истины и красоты. Оно наполняет нас светом и благодарностью, примиряет с обстоятельствами, наполняя сердце принятием и прощением.
По сути, это состояние противоположно унынию. Если радость всегда связана с созиданием, созерцанием, благодарностью, то уныние, напротив, порождают обманутые или неутоленные желания. Весь современный мир толкает человека к унынию – реклама, кинематограф, телевидение создают сладкий миф, вожделенную иллюзию, которая становится для массового сознания манящим миражом. Реальность на этом фоне оказывается пресной, скучной, бессмысленной, и человек устремляется в сказочный виртуальный мир, которого никак не может достичь.
Мало кто задумывается о том, что жизнь – это встреча с реальностью, а бег за миражом – псевдосуществование. Первое ведет к полноте, глубине, радости и благодарности, второе – к унынию, опустошенности и одиночеству.
Если психологу удается подвести человека к осознанию и принятию этих глубинных, бытийных, экзистенциальным проблем, то мы оказываемся на пути к личностному становлению и обретению подлинного смысла собственной жизни.
Источник