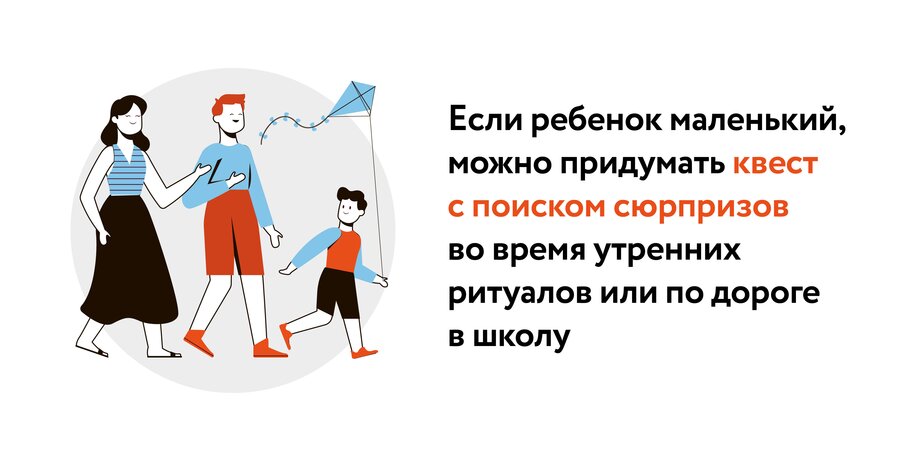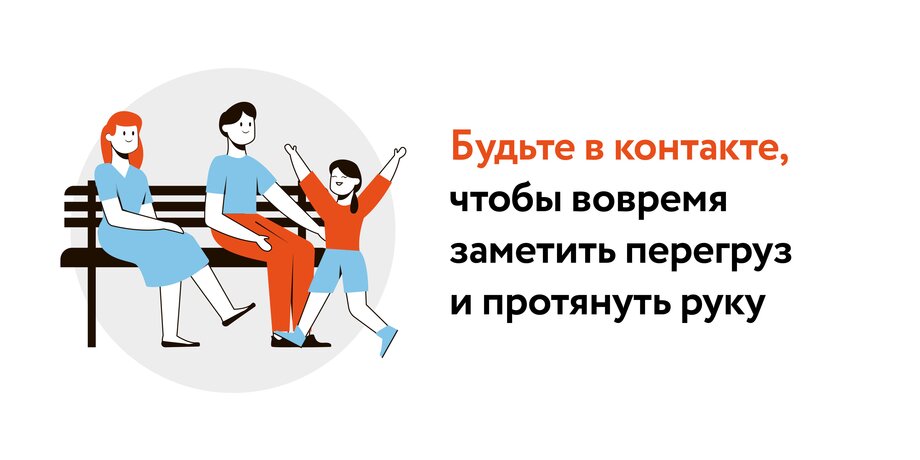- Как помочь школьнику справиться со страхом перед 1 сентября
- Ситуация первая. Боюсь идти в новую школу
- Ситуация вторая. Меня никто не любит/со мной никто не дружит
- Ситуация третья. Терпеть не могу эти предметы/этих учителей
- Ситуация четвертая. Можно я посплю еще немножко?
- Ситуация пятая. Я не справлюсь
- «На урок я шел как на казнь». Подростки о школьных неврозах
Как помочь школьнику справиться со страхом перед 1 сентября
Начало учебного года нередко становится временем испытаний и для школьников, и для их родителей, которые не всегда вовремя успевают заметить проблему и не знают, как помочь ребенку справиться с его неуверенностью и страхами. О том, какие они бывают в преддверии 1 сентября и как можно с ними работать, в колонке журналиста и мамы четверых детей Анны Кудрявской-Паниной.
Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Ну да, мы привыкли, что 1 сентября – День знаний – это праздник. Букеты осенних цветов, первый звонок, линейка, урок мира. Но далеко не для каждого ребенка первый день после летних каникул в школе прямо радость-радость. Для многих из них в сентябре начинается непростое время – время тревог, переживаний и не самых приятных эмоций.
Летняя вольница заканчивается, и начинается новая старая школьная жизнь. Кому-то из родителей везет больше – их дети идут в школу с радостью, учатся легко, со всеми ладят, а к возникающим сложностям относятся без трагизма. Да, такое бывает, и нередко. Но нередко бывает и другое. А еще бывают непростые ситуации, которые усложняют и без того непростой переход от свободной жизни к каждодневным обязательствам.
Ситуация первая. Боюсь идти в новую школу
На самом деле одна из самых сложных ситуаций, в том числе и для родителей. Сложность в том числе в непредсказуемости развития событий. Часто родители совершают ошибку, уверяя ребенка, что все будет хорошо или как в старой школе. Вообще не надо рисовать идеальных с вашей точки зрения картин жизни в новой школе, не надо обещать, что там ребенка все полюбят, что все будет получаться. В общем, самое плохое, что можно сделать в данном случае, – это наобещать того, чего гарантировать вы не можете. Говорить ребенку нужно только правду и ничего, кроме правды. Как на суде.
А правда в том, что мы не знаем, как и что будет в новой школе. Но чтобы неизвестность не пугала, имеет смысл заранее познакомить ребенка с учителями и самим учебным заведением, пройтись по коридорам, побывать в классе, поговорить с классным руководителем. Даже если это не придаст большой уверенности, то по крайней мере может избавить от парочки страхов.
Моя приятельница пришла в новые школу и класс 1 сентября с сыном-третьеклассником. Накануне они вместе напекли печенья, которым и решили угостить новых одноклассников. Мама рассказала сыну, что многие взрослые соблюдают такую традицию: при переезде в новую квартиру угощают соседей по лестничной клетке чем-то вкусным и таким образом знакомятся с ними и обозначают свое присутствие и добрососедские намерения. И почему бы не поступить так в новом классе?
Нет, мы не покупаем чье-то расположение и любовь. Никто не обязан любить нас за печеньку. Мы просто знакомимся: «Я Миша, мы переехали в новый дом, и теперь я буду учиться с вами, угощайтесь!»
Конечно, интеграция в новый коллектив в разном возрасте проходит по-разному. Подростки, например, очень боятся того, что подумают о них одноклассники, что их будут оценивать, обсуждать. С одной стороны, это, конечно, так. С другой, важно напомнить своему ребенку, что в этом возрасте каждый из них как раз больше озадачен вопросом, что о нем думают окружающие, чем сам что-то думает о них. Что большинство ребят стараются казаться круче, чем есть на самом деле. Что увереннее себя чувствуют в компаниях. Что будут дети, с которыми сложится дружба. Но не обязательно дружить со всеми.
Новая школа – это terra incognita, предусмотреть все невозможно. Но очень важно сказать ребенку: что бы ни случилось, вы всегда будете на его стороне.
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Ситуация вторая. Меня никто не любит/со мной никто не дружит
Грустно и тревожно, когда ребенок так чувствует себя в школе. Это случается, если он с одноклассниками вне школы не встречается, живет далеко, например, или по другим причинам. И ему кажется, что он вырван из их сообщества, что он чужой, даже если в классе у него есть приятели.
Поговорите с ним об этом. Возможно, ему хочется объять необъятное, но дружить со всеми невозможно и не нужно, нравиться всем тоже невозможно и не нужно. Кому-то достаточно одного верного друга, а у кого-то десяток приятелей. Наверняка есть кто-то и в классе, с кем ребенок хорошо общается, но по какой-то причине ему этого мало. Все это стоит проговорить.
Что надо не только о себе рассказывать, но и уметь слушать. Что люди любят, когда их слушают, и если дать человеку высказаться, можно понять, что его интересует, и это может стать отправной точкой в новой дружбе.
Ситуация третья. Терпеть не могу эти предметы/этих учителей
И с этим работать тоже можно. Ну, во-первых, надо попытаться понять, почему именно эти предметы или педагоги вызывают такой негатив. Спросить ребенка, как он думает сам, что можно с этим сделать? Вообще, это очень хорошая, на мой взгляд, практика – спрашивать ребенка, что он думает по тому или иному поводу, какие видит пути решения, что делать, если какой-то путь тупиковый или плохо реализуемый (ну, например, он видит выход в том, чтобы не учить эти предметы совсем или не ходить на уроки к этим учителям). Во-первых, таким образом вы даете понять, что проблемы ребенка вам небезразличны. А во-вторых, совместное решение однозначно будет лучшим.
Можно попытаться найти то, от чего можно оттолкнуться, чтобы заинтересовать ребенка тем или иным предметом. Или, в конце концов, дать понять ему, что никто не ждет, что он станет нобелевским лауреатом по физике, что никто не требует отличных отметок, что базовых знаний будет достаточно (а лишними они точно не будут). Что преподаватели – обычные люди, а люди бывают разными, и что нам часто в жизни приходится делать то, чего делать не хочется, и общаться с теми, кто нам не очень приятен. И это тоже школа. Школа жизни.
Ситуация четвертая. Можно я посплю еще немножко?
Вроде бы не самая страшная проблема. Но возникающая с завидной регулярностью. И особенно после каникул, когда режим был более мягким, если вообще был. Ну, конечно, я скажу прописную истину, что за пару недель можно привести все в норму, постепенно сдвигая вечерний отбой на более раннее время. Но не факт, что это получится. И первые недели будут довольно сложными в плане пробуждения, работоспособности и настроения с утра.
Если ребенок уже вырос из таких забав, можно предложить ему один «ленивый» день в месяц, когда вы разрешите ему спать хоть до обеда и вообще не ходить в школу (да, представьте себе, это нормально и вполне можно себе позволить, главное – выбрать самый безопасный с точки зрения издержек день: без проверочных и контрольных работ, ну и так далее) и ничего не делать. Такая вольность и короткая передышка, как правило, никак не отражается на учебном процессе и его результатах, но часто дает отличную перезагрузку и прибавляет ресурсов уставшему или еще не втянувшемуся в режим школьнику.
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Ситуация пятая. Я не справлюсь
С таким страхом сталкиваются в основном дети-перфекционисты и те, чьи родители передавливают с требованиями. Если это ваш случай, помогите ребенку снять с себя этот груз. Объясните ему, что не отметки в дневнике и табеле делают человека умным или глупым, хорошим или плохим. Что не надо пытаться прыгать через голову, что хорошие знания и хорошие оценки не всегда тождественны, что вы любите его вне зависимости от того, как он учится, и что вы готовы помочь, если это потребуется.
И помните, что всегда есть возможность, если вы чувствуете, что не справляетесь с детскими страхами, ощущаете беспомощность в попытках помочь ребенку преодолеть сложности, обратиться к психологу. Сложность лишь в том, чтобы найти по-настоящему профессионального.
Я сейчас в том периоде жизни, когда в моем доме нет школьников: старшие дети окончили школу пять и четыре года назад, младшим до школы еще столько же примерно. Мои старшие хорошо учились, несколько раз меняли школы (когда вынужденно, когда по своему желанию), бывало, конфликтовали с учителями и, конечно, терпеть не могли рано вставать. Я никогда не ругала их за оценки и никогда не требовала выдающихся успехов. И как-то мы пережили эти непростые 11 лет (на двоих – 22 года). Дочь в итоге золотую медаль получила, а уж сколько недовольства школьной программой и педагогами слышала наша семья от нее за эти годы.
Если честно, я никогда не относилась к школе с трепетом и благоговением: ни когда училась сама, ни в годы учебы моих детей. Это просто один из этапов жизни. Важных и неизбежных. И уж поскольку он именно такой, то, значит, просто надо его пережить. С минимальными потерями и издержками. Для нервной системы в первую очередь.
Источник
«На урок я шел как на казнь». Подростки о школьных неврозах
У одиннадцатиклассника Ярослава проблемы начались четыре года назад.
Он стал бояться ответов у доски: одна из учительниц совсем не замечала его стараний, но высмеивала перед всем классом за малейшие ошибки. «Выше тройки по ее предмету я не получал. На урок шел будто на казнь», — рассказывает школьник. Из-за постоянного стресса у Ярослава начались сильные боли в желудке, повысилось давление и появилась тахикардия, головные боли. Плохое самочувствие мешало сосредоточиться на учебе, и Ярослав начал пропускать уроки. Родители подростка сначала заподозрили его в симуляции. Однако врач диагностировал у Ярослава вегето-сосудистую дистонию.
Частые пропуски занятий отразились на отметках и отношениях с учителями и одноклассниками. «Учителя говорили что-то вроде: “Сколько это может продолжаться? Тебе нужно взяться за голову! У всех болячки есть, ты же не смертельно больной, а, значит, можешь в школу ходить!” Одноклассники от меня просто отдалились, а кто-то начал задирать: “О! Посмотрите-ка, кто в школу пришел!” или “Ого, у нас новенький?”» — рассказывает Ярослав. Общение с одноклассниками в итоге свелось к нулю. Учительница, которая высмеивала школьника, начала сознательно занижать ему оценки, а под конец девятого класса сообщила, что вынуждена поставить «два» в четверти. «Я думал, что настал конец света, жизнь кончена и меня даже в дворники не возьмут. Родители тут же пошли к классной руководительнице, и оказалось, что у меня все-таки выходит тройка из-за решенных тестовых вариантов ОГЭ (оценки за них засчитывались как за самостоятельную работу)». Школьник хотел перевестись на домашнее обучение, но родители были против: «Перестанешь учиться».
«Врачи неоднократно намекали, что стоило бы заняться моим неврозом. Родители отмахивались, залечивая симптомы, но никак не причину. Я же не пытался что-то менять, потому что хватало проблем с учебой, — говорит Ярослав. — Стараюсь смотреть на ситуацию с улыбкой, успокаивая себя тем, что остался всего лишь год в ненавистной для меня школе».
Родители постоянно сравнивали ее со старшим братом, который рос «раздолбаем», и девочка делала все, чтобы не быть на него похожей
А нна с детства много времени уделяла учебе: школа помогала ей отвлечься от проблем дома. Родители постоянно сравнивали ее со старшим братом, который рос «раздолбаем», и девочка делала все, чтобы не быть на него похожей. «Меня никогда не ругали за плохие оценки. Но я вкладывала очень много сил в учебу, поэтому любые неудачи переносила болезненно. Так мама меня еще и добивала: “Ты неудачница, у тебя ничего получится!”» — говорит девушка. Она не только старалась хорошо учиться, но и участвовала во всех школьных мероприятиях, брала на себя больше, чем могла потянуть — «жизни не видела, только училась как машина». В итоге это вылилось в боязнь школы и домашних заданий, из-за которых приходилось отказываться от радостей жизни.
В 8-м классе у школьницы начались панические атаки с резкими скачками давления. Когда врачи выявили у девочки вегето-сосудистую дистонию, ее мать только сказала, что все проблемы в голове, дочь сама во всем виновата.
За паническими атаками последовала депрессия. В 10-м классе Анна стала думать о суициде. Родители отвели ее к психиатру, который назначил антидепрессанты. Девушка некоторое время принимала лекарства, но потом бросила. «Родители вообще забыли про мою депрессию, а я пустила все на самотек. Думала, уеду учиться в другой город, и мое состояние улучшится. Поступила в вуз, живу далеко от родителей, но теперь довожу себя сама на ровном месте. Я разочаровалась в учебе, разочаровалась в себе и не знаю, что с этим делать».
Врач сказал, что это кардионевроз, выписал успокоительные и витамины, но мне еще долго казалось, что не хватает воздуха
Л юдмилу воспитывали бабушка и дедушка. «Бабушка всегда ждала от меня высоких результатов в учебе и дома. Если я не оправдала ее ожиданий, могла сказать мне обидные слова, накричать. Когда я получала плохие оценки, ругала, почему я не понимаю таких элементарных вещей». Девочка росла тихой и училась посредственно. Однако в пятом классе ее вдруг заинтересовала учеба и неожиданно для всех, даже для себя, она стала отличницей. Пока ее одноклассники гуляли, девочка сидела за учебниками, тщательно готовясь к каждому уроку. Это не прибавило Людмиле популярности: одноклассники сначала гнобили ее, а потом и вовсе перестали общаться. Она замкнулась в себе.
В 8-м классе у девочки умер прадедушка. Людмила тяжело переживала его смерть. Вскоре у нее начались панические атаки. «Врач сказал, что это кардионевроз, выписал успокоительные и витамины, но мне еще долго казалось, что не хватает воздуха. Потом к этому добавились боли в области сердца, головы, повышенное давление, — рассказывает Людмила. — Со временем атаки прошли, но теперь я боюсь посещать общественные места: мне кажется, что окружающие меня оценивают и критикуют. Я не знаю, что делать. Живу в маленьком городе, где нет возможности получить какую-то психологическую помощь».
Илья Смирнов, врач-психиатр, психотерапевт, директор исследовательского центра психологического здоровья Open Mind:
Невроз как реакция организма школьника на неуспеваемость, высокую нагрузку, давление со стороны родителей и учителей — довольно распространенное явление. По моим впечатлениям, с каждым годом таких детей становится все больше. У них наблюдается общее недомогание, потливость, учащенное сердцебиение, боль в суставах. Также могут быть поведенческие нарушения: агрессия, аутоагрессия, в том числе суицидальное и парасуицидальное поведение (последнее встречается даже у детей младшего школьного возраста, но редко). Все это нередко происходит на фоне школьной дезадаптации. У детей младшего школьного возраста эти реакции обычно связаны с тем, что школьная программа не соответствует их возможностям. Кроме того, детям в силу поведенческих особенностей тяжело долго сидеть на одном месте.
В подростковом возрасте, когда организм перестраивается, ребенок склонен к протесту. Это может стать основой школьных конфликтов. Однако в этом же возрасте у ребенка могут возникнуть различные патологические явления со стороны психики, часто замаскированные. Родителям необходимо обращать внимание на резкие изменения в характере ребенка: например, в младшем школьном возрасте у него не было проблем с адаптацией в школе, не было конфликтов, а потом вдруг ребенок стал замкнутым, пассивным, жалуется на плохое самочувствие в учебный период. Если состояние ребенка обусловлено стрессом, избыточными нагрузками, конфликтами с одноклассниками, ребенку поможет психотерапия. В ряде случаев, когда школа является первоисточником стресса, ребенку может помочь перевод в другое образовательное учреждение или на другую форму обучения. Если же в основе школьной дезадаптации лежит психическая патология (в подростковом возрасте это, например, депрессия), тут в первую очередь нужно медикаментозное лечение.
Источник