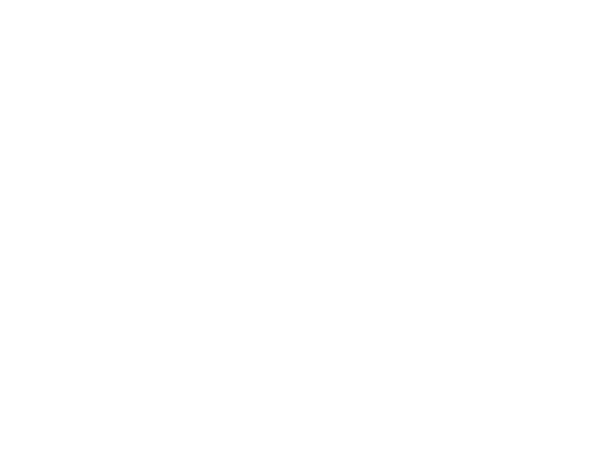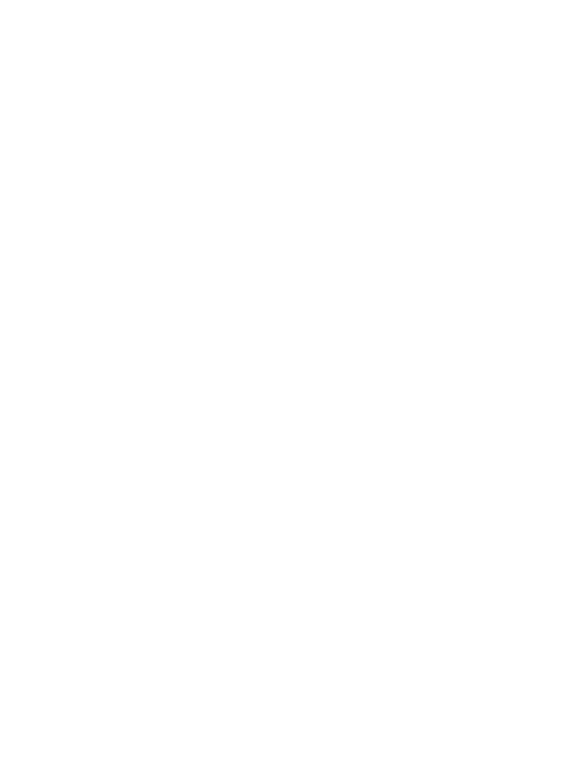Психогенная дистония
Больные истерией составляют в общей неврологической практике от 1% до 9% (3, 13, 14 ). При этом имеются в виду все варианты истерических неврологических нарушений — двигательные, чувствительные, координаторные, зрительные, истерические боли и т. д. В группе больных с двигательными нарушениями частота психогенных двигательных расстройств колеблется от 2,1% — 3,3% (7 ).
Двигательные нарушения при истерии включают в себя три основных синдрома: истерические парезы и параличи, истерические моторные припадки и истерические гиперкинезы (4). Если первые две формы достаточно хорошо известны, то адекватная интерпретация истерических дискинезий встречает большие затруднения ( 1 ).
Современные классификации психогенных гиперкинезов включают психогенный «тремор», психогенную «дистонию», психогенные «миоклонии» и психогенный «паркинсонизм». Наиболее часто встречаются психогенный «тремор» (50%), затем «дистония» (18%), «миоклония» (14%), и «паркинсонизм» (7%) (7). Психогенная дистония — одна из наиболее трудно диагносцируемых в этой группе (11). Среди пациентов, обращающихся к врачу по поводу дистонии (идиопатической и вторичной) психогенная дистония встречается в 2,1% — 2,9% ( 7 ) случаев.
Больной Щ., 42 лет, наладчик автоматов, с 1994 года инвалид II группы. Находился в Клинике нервных болезней им. А. Я. Кожевникова ММА им. И. М. Сеченова с 28 августа по 9 октября 1996 года. Данная госпитализация — шестая за 6 лет.
Поступил с жалобами на постоянные болезненные тонические спазмы, «стягивания» пальцев правой руки и периодически левой, иногда подобные ощущения появляются в ногах; онемение кистей и предплечий, а так же стоп; боли в шее, надплечьях и спине; приступы сердцебиений, одышки, сопровождающиеся чувством страха.
Со слов больного в 9 лет мать обратила внимание на сутулость сына. При консультации ортопеда был выявлен легкий сколиоз грудного отдела позвоночника. С пубертатного периода (14 лет) отмечалось периодическое повышение АД до 150\90 мм. рт. ст . С 24-х лет появились боли в спине, сопровождавшиеся онемением, преимущественно в грудном и реже в поясничном отделах. Боли возникали в основном при физической нагрузке, постепенно они становились более интенсивными и возникали чаще. К 26 годам боли стали «невыносимыми» ( как «зубная боль»). Пациент обратился в центр реабилитации и по рекомендации ортопеда начал заниматься на тренажере. В 28 лет установил стационарный тренажер у себя дома и занимался на нем ежедневно до 6 часов в день. С тех пор и до настоящего времени физические упражнения и, особенно, занятия на тренажере занимают в жизни пациента значительное место. Он рассказывает об этом с оттенком героизма: вставал в 5 часов утра, чтобы до работы успеть выполнить свою программу на тренажере, занимался в обеденный перерыв, причем со слов больного иногда это было даже опасно, у него «поднималось давление», «шла кровь из носа», однако он продолжал тренировки. Чтобы иметь возможность тренироваться в реабилитационном центре в Горьковской области, пациент использовал свой очередной отпуск или брал отпуск за свой счет. Пациент с гордостью демонстрирует лечащим врачам фотографии своих занятий на тренажере.
Данное заболевание началось в 35 лет с болей и эпизодических ощущений «щелчка» в пястно-фаланговом суставе 1-ого пальца правой кисти с последующим его разгибанием, затем в пальце появились тонические спазмы со сгибанием и приведением, которые со временем распространились и на остальные пальцы правой кисти. Лечился у травматолога и невропатолога. В 38 лет впервые обследован в Клинике нервных болезней им. А. Я. Кожевникова , где наблюдались тонические спазмы в I -II-III пальцах правой руки, сопровождавшиеся болями и онемением обеих кистей и предплечий, пациент жаловался на боли в шее, надплечьях, спине и периодические спазмы в икроножных мышцах. На основании клинической картины и параклинических данных: рентгенографии позвоночника и показателей нейронографии (выявлено некоторое увеличение резидуальной латенции при исследовании скорости проведения по срединным нервам больше справа) был диагностирован «остеохондроз позвоночника и вторичный дистонический синдром». При последующей госпитализации (в возрасте 40 лет) отмечено нарастание указанной патологии: ощущения стягивания стали возникать и в левой руке, хотя были выражены меньше, появились периодические сведения пальцев ног с элементами флексии и внутренней ротации (больше справа), а так же чувство онемения в левой пятке. Онемение и боль, которые ранее охватывали только кисти, распространились на предплечья и достигли уровня локтевого сгиба. В этот же период отмечены неврологические симптомы, выходящие за рамки фокальной дистонии. Так, в правой руке появился миоклоничесий тремор как в покое, так и при движениях, бесследно исчезнувший после приема мадопара, были обнаружены слабость мышщ, осуществляющих тыльное сгибание правой кисти, слабость в ногах, появились атактические расстройства (плохо выполнял коленно-пяточную пробу слева), отмечено снижение всех видов чувствительности на ногах и руках по ампутационному типу. В этот период обращено внимание на то, что указанные неврологические симптомы развиваются на фоне выраженных эмоциональных расстройств. С того же времени возникают приступы нехватки воздуха, сопровождающиеся сердцебиением и чувством страха. В последующие госпитализации (в 41 и 42 летнем возрасте) отмечено нарастание выраженности тонического спазма рук, который в правой руке стал постоянным, а в левой интенсивность его значительно колебалась, появились жалобы на снижение памяти, походка носила «щадящий» характер. В связи с вовлечением в патологический процесс второй руки и стоп была диагностирован «мультифокальная дистония» на фоне энцефаломиелита». Неизменно в Клинике отмечались «функциональные наслоения» и «глубинная психопатология».
Родился в Тульской области, вторым ребенком в семье. Имеет старшую сестру 46 лет. Отец — агрессивный, деспотичный человек, постоянно бил жену и детей. Это его третий брак, до этого он сидел в тюрьме за убийство своей первой жены. Дед по отцовской линии также был агрессивным и асоциальным человеком и был убит в драке. У сестры так же агрессивный характер, к своим детям относится как и ее отец, нередко их бьет. Мать по характеру мягкая, добрая и терпеливая. Родители в течение 30 лет находятся в разводе. Наследственных заболеваний в семье нет. Со слов больного он окончил школу с золотой медалью, затем окончил техникум электронных приборов, всегда любил рисовать, чертить, играл на баяне. В молодости организовал самодеятельный ансамбль. Несмотря на сколиоз позвоночника был призван в армию, служил в строительном батальоне. После армии трижды пытался поступить в милицейское училище, однако не был принят из-за сколиоза. Был женат в течение двух месяцев, затем развелся, так как, с его слов, и жена, и теща постоянно попрекали его за «болезненность» и физическую несостоятельность: при любой физической нагрузке усиливались боли в спине. После возвращения из армии до 39 лет работал наладчиком автоматов , так как эта работа не была связана с физическим напряжением. С 40 лет на инвалидности.
В истории жизни, излагаемой пациентом, обращает на себя внимание, что изначально все проблемы и конфликты как профессионального, так и личного, плана больной объясняет имеющимися дефектами, а именно, сколиозом и, связанными с ним болями и физической недееспособностью . Именно этим объясняет он службу в строительном батальоне и трехкратные безуспешные попытки поступить в милицейское училище.
В беседе больной часто касается проблем, связанных с его отношениями с женщинами. Он считает, что все женщины, которые были у него, включая жену расстаются с ним из-за физического дефекта, из-за того, что он не может быть им опорой в жизни; это и неудачный брак и невозможность в дальнейшем устроить свою личную жизнь. Появление тонических спазмов в руках, по его словам так же связано с эмоциональным стрессом: от него ушла любимая женщина, предрекая ему болезнь. Тонический спазм правой кисти так же «участвует» в его отношениях с женщинами: больной рассказывает об эпизоде, когда на работе отвертка, выпавшая из его «спазмированных»пальцев попала в глаз сотруднице и поранила ее; в других ситуациях его «больная рука» непроизвольно «защемляла» интимные части женского тела (грудь, бедро), что, в свою очередь, приводило к конфликтам.
Себя больной считает жертвой врачебной некомпетентности, «упустили сколиоз», рассказывая об этом больной становится агрессивным и активно подчеркивает собственные усилия в борьбе с болезнью, которые, в основном сводятся к интенсивным физическим упражнениям.
Своеобразна и вербальная характеристика своего синдрома. Больной описывает свои ощущения выражениями, в которых очевидно звучат агрессивные тенденции: пальцы «защемляют предметы», » душат», «клещенят», «осьминожат» и т. д. Обращает на себя внимание феномен толерантности к симптому или «прекрасного равнодушия», что сочетается с некоторой отчужденностью симптома от личности больного; говоря о пораженной руке больной пользуется безличными оборотами: пальцы «затягивает», «зажимает», руку «клещенит», рука «как осьминог».
История болезни и жизни изобилует драматическими событиями, противоречивы данные об основном неврологическом симптоме — болезненном тоническом спазме: меняется временная последовательность появления симптомов, меняется их латерализация, появляются и исчезают дополнительные неврологические симптомы (гиперкинезы, атактические расстройства, парезы), оранжирующие основной дефект. Создается впечатление о лживости и повышенной внушаемости больного.
Соматический и неврологический статус: Больной невысокого роста, гиперстенического телосложения. Имеются элементы дизрафического статуса в виде короткой шеи, неравномерного выстояния лопаток, широкого межлопаточного расстояния, гиперэластичности кожи, сколиоза грудного отдела позвоночника, который больной произвольно может значительно увеличить, показывая врачу те позы, которые помогают ему снять болевой синдром. Артериальное давление за 6-летний период наблюдений в клинике колебалось от 130/90 — 190/100 мм. рт. ст.
ЧМН — интактны. Обращает на себя внимание живая, подвижная мимика больного, особенно в оральной области, с некоторой ее асимметрией при разговоре на волнующие темы. Сила в конечностях не изменена, сухожильные и периостальные рефлексы с рук и ног живые и симметричные.
Пальцы правой кисти постоянно находятся в состоянии сгибания, возможно некоторое пассивное разгибание IV и V пальцев, попытки разгибания I, II, III пальцев требуют большого физического усилия и встречают значительное сопротивление и усиление спазма. Отмечается нарастание выраженности спазма при прикосновении предмета к ладони, при необходимости удержать предмет, при попытке врача пассивно разогнуть пальцы, при разговоре на тему болезни и значимых жизненных ситуаций. При отвлечении внимания (разговор на тему, не связанную с заболеванием) тоническое напряжение значительно уменьшается и кисть заметно расслабляется, вплоть до ее полного разгибания. Несмотря на грубость дефекта, больной вполне удовлетворительно совершает правой рукой различные движения: так он может застегивать ею пуговицы, пользоваться ложкой, писать и т. д., при этом скорость движений не замедлена. Сон, алкоголь, волнения, со слов больного, существенно не влияют на выраженность спазма, который сохраняется и во сне. Отсутствуют вспомогательные приемы для уменьшения спазма. В левой руке периодически так же отмечается повышение тонуса сгибателей пальцев, при просьбе совершать повторные движения (сгибание и разгибание) пальцев можно отметить нарастающую замедленность движений (псевдомиотонический феномен). Периодически наблюдается напряжение пальцев на ногах с их флексией и эквиноварусной установкой стоп. Других изменений мышечного тонуса нет. Чувствительные нарушения в виде снижения болевой и температурной чувствительности в руках с уровня локтевого сгиба и в ногах с уровня колен. Нарушений глубокой чувствительности не выявлено. Координаторные пробы выполняет удовлетворительно, иногда небольшое интенционное дрожание при выполнении пяточно-коленной пробы левой ногой. В позе Ромберга устойчив. Походка не изменена. Тазовых нарушений нет.
Параклинические данные:
Рутинные анализы крови, мочи, КФК, Гамма -ГТ, гликемический профиль, ультразвуковая допплерография МАГ, ЭЭГ — в пределах нормы. На глазном дне — умеренная ангиопатия сетчатки гипертонического типа. Кольца Кайзера-Флейшера не выявлено. ЭХО-кардиография — данных за пролапс митрального клапана нет, гипертрофии левого желудочка не обнаружено. ЭКГ — начальные признаки гипертрофии левого желудочка. Рентгенография позвоночника: выраженный S-образный сколиоз шейно-грудного отдела позвоночника с ротацией позвонков по оси. На обзорных рентгенограммах и томограммах краниовертебральной области нерезко выраженная коорктация атланто-эпистрофеального сегмента. Рентгенография кистей патологических изменений не выявила. МРТ головного мозга: умеренная наружняя и внутренняя гидроцефалия. Диффузный атрофический процесс, больше в лобно-височно-теменной области. ЭМГ — в пределах нормы. Проба на скрытую тетанию — отрицательная. Миотонических разрядов не зафиксировано. Нейронография: скорость проведения по двигательным и чувствительным волокнам срединных и локтевых нервов в пределах нормы. Психометрическое исследование с помощью теста МИЛ выявило явное желание представить себя в благоприятном свете ( шкала лживости L на уровне 70 — Т-норм). Ведущей среди клинических шкал является 2 шкала (высота — 97 Т-норм) при низкой 9 шкале (ниже 35 -Т-норм), что свидетельствует о депрессивном синдроме.
Таким образом, у больного можно выделить следующие клинические синдромы:
1. Синдром тонических спазмов, феноменологически напоминающих дистонические, в пальцах рук, преимущественно справа с формированием тонической контрактуры справа;
2. Синдром чувствительных расстройств, представленный снижением болевой и температурной чувствительности на руках и ногах по ампутационному типу;
3. Алгический синдром, заключающийся в болезненном характере «тонических спазмов» а так же болях в шее, надплечьях, позвоночнике;
4. Синдром дизрафического статуса, проявляющийся в особенностях строения тела, нарушениях костного скелета (сколиоз , негрубые аномалии кранио-вертебрального перехода), гиперэластичности кожи и т. д. ;
5. Синдром соматической патологии — гипертоническая болезнь l-ll ст;
6. Синдром внутренней и наружней гидроцефалии, сочетающийся с атрофией лобно-височно-теменных отделов мозга;
7. Синдром личностных изменений в виде клинически выявляемой лживости, подтвержденной данными теста МИЛ; внушаемости; экстрапунитивном типе реакций и агрессивности, явно проявляющейся в беседе с врачем и скрыто в вербальной характеристике спазма и носящей наследственный характер; толерентности к симптому и «героической позе сопротивления болезни».
Ведущим и основным инвалидизирующим симптомом в клинической картине является тонический спазм (контрактура) правой кисти и клинический поиск был направлен прежде всего на дифференциальную диагностику этого феномена. Атипичность рисунка гиперкинеза и выраженность эмоциональных и психопатологических расстройств, длительное время затрудняли правильную диагностику. На протяжении всех 6 лет наблюдения за больным дифференциальный диагноз проводился между органической и психогенной дистонией. На основании изучения больных с психогенными и органическими гиперкинезами нами были сформулированы 4 критерия диагностического алгоритма: анализ двигательного рисунка гиперкинеза (в данном случае «дистонической» позы); динамика рисунка гиперкинеза при экзогенных и эндогенных воздействиях; оценка синдромального окружения основного дистонического феномена; анализ течения заболевания (2). Известно, что диагностика истерических (психогенных — по современной терминологии) неврологических расстройств осуществляется в 2 этапа. Первый этап — негативная диагностика т. е. исключение органического страдания, второй этап — позитивная диагностика, т. е. аргументация психогенного происхождения анализируемого синдрома. Негативная диагностика в качестве непременного условия предполагает детальное знание органических гиперкинезов, каждый из которых характеризуется прежде всего специфическим внешним рисунком движений и поз. Для дистонии типичны следующие специфические критерии: дистоническая поза; дистония действия; зависимость и изменчивость от положения тела; зависимость от эмоционального и функционального состояния (сон-бодрствование, алкоголь, утро-вечер, стресс и гипноз и т. д. ); коррегирующие жесты; парадоксальные кинезии; ремиссии (менее характерные для фокальных дистоний); сочетание и переход одних фокальных форм дистонии в другие.
Анализируя с этой точки зрения феноменологию обсуждаемого нами случая можно отметить очевидную атипичность «дистонической» позы, постоянный характер двигательного дефекта в правой кисти, сохраняющегося при любых действиях больного, затрудняя их, однако при этом нисколько не влияя на качество их выполнения ( например, письмо) и затрачиваемое время. Не отмечается колебаний выраженности «тонического спазма» в зависимости от функционального состояния (сон — бодрствование, утро-вечер, стресс, переутомление), больной не использует коррегирующие жесты, нет пародоксальных кинезий т. е . отсутствуют позы или действия, которые помогают пациенту уменьшить выраженность двигательных расстройств. За весь период наблюдения не выявлено отчетливых ремиссий; c момента заболевания в патологический процесс были вовлечены кисти (преимущественно правая) и эпизодически ноги и в течение 6 лет менялась только выраженность двигательных расстройств, нарастая или полностью исчезая в левой кисти, не выявлено характерных сочетаний и переходов одной формы дистонии в другую.
Сохранение тонического спазма в покое, наличие болевого синдрома и чувствительных расстройств в области дефекта, сделали вполне реальной мысль о периферической дистонии. Диагноз, который на первых этапах заболевания и обсуждался в клинике.
Хотя в клинической картине периферической дистонии много общего с идиопатической дистонией, тем не менее есть и определенные особенности, в частности: временная связь с предшествующей периферической травмой или другими причинами повреждения структур периферической нервной системы, например тунельного синдрома или повреждения нервов во время специфической профессиональной деятельности (т. н. «синдром перетруживания»); локальная болезненность в области дефекта; сохранность дистонических поз в покое т. е. дистония покоя (по крайней мере в дебюте); возможность развития рефлекторной симпатической дистрофии. Однако участие в патологическом процессе стопы, отсутствие других отчетливых клинических и электрофизиологических признаков поражения срединных нервов при последующих обследованиях больного позволили отклонить версию о периферической дистонии.
Таким образом клинический анализ исключает органическую дистонию. Заметим лишь, что при дистонии, к сожалению отсутствуют надежные параклинические исследования и тесты, позволяющие подтвердить органический генез синдрома.
По исключении органической природы дистонии, возникает необходимость анализа нашего наблюдения уже с позиций современных взглядов на позитивные критерии психогенной дистонии (8, 9, 11), отраженные в таблице:
Прежде всего обращает на себя внимание атипичный рисунок гиперкинеза. «Дистоническая» поза больного скорее напоминает движение руки, пытающейся захватить какой-либо предмет, либо положение кисти в момент агрессии — сжатие кулака. В этом контексте понятен и «выбор» кистей (рук), учитывая их особую роль в выразительной жестикуляции. Психогенная дистония чаще начинается с ноги и менее, чем в половине случаев впоследствии переходит на руки ( 8 ). Однако, в недавнем сообщении Шимригка ( 5 ) описана пациентка, у которой в психогенной ситуации на фоне смены профессионального стереотипа (пианистка сменила фортепиано на орган) появились болезненные тонические судороги, а затем и контрактуры в кистях. Через 8 лет, при разрешении психогенной ситуации двигательные расстройства полностью исчезли. Нельзя исключить, что у нашего больного агрессивные тенденции личности субклинически проявлялись в постоянном напряжении мышц, участвующих в реализации агрессии в поведении — сжатии кулаков. Возможную роль в провоцировании синдрома сыграли длительная физическая нагрузка (занятия на тренажере).
Говоря о динамичности спазма необходимо обратить внимание на сохранность гиперкинеза во сне, о чем говорит сам больной и наблюдение в клинике. Традиционно этот феномен расценивается как надежный признак не только органического характера гиперкинеза, но и доказательства стволового или спинального уровней поражения. Однако, в случае Batshaw c cоавт. (6 ) психогенная дистония в виде эквиноварусной установки стопы у больной с синдромом Мюнхаузена сохранялась и во сне.
При отсутствии характерной для органических моделей динамичности дистонического феномена у нашего больного обнаруживались специфические факторы, влиявшие на выраженность тонического спазма. Так, прикосновение, попытка пассивного разгибания пальцев, вкладывание предмета и необходимость его удержания правой рукой усиливали спазм и боли в этой руке, в то время как разговор с больным на посторонние темы приводил к значительному расслаблению руки. Иными словами имело место преимущественное влияние психогенных, а не физиогенных факторов на динамику симптома: манипуляций врача с больной рукой и отвлечение внимания. Следует заметить, что последнему фактору придают важное значение и в диагностике других психогенных неврологических расстройств — тремора и нарушений походки ( 10, 12 ). Синдромальное окружение основного «дистонического» симптома складывается из комплекса разнообразных псевдоневрологических расстройств, появляющихся и исчезающих при повторных осмотрах. Это — тремор кисти с быстрым его регрессом на фоне приема мадопара, псевдомиотонический феномен в левой кисти, нарушение всех видов чувствительности по «ампутационному типу», дистальные «парезы» и атактические расстройства. Течение заболевания так же характерно для психогенной «дистонии». Это — дебют заболевания с грубого диффузного алгического синдрома. На его фоне периодически появлялись тонические разгибательные движения в большом пальце, трансформировавшиеся в тоническую сгибательную контрактуру. Типичны и спонтанные ремиссии двигательных нарушений в другой руке, а так же другие преходящие псевдоневрологические расстройства. Поскольку двигательные расстройства в обеих руках и ноге наблюдались уже в дебюте скорее можно говорить псевдопрогрессирующем течении заболевания.
Выявляемая на МРТ гидроцефалия в сочетании с негрубой атрофией лобнотеменновисочной области возможно играет определенную роль в симптомообразовании. В последних исследованиях с помощью позитронно-эмиссионной томографии была показана заинтересованность этих отделов мозга у людей с ярко выраженной агрессией ( осужденные за убийство) (15 ). Не исключено, что атрофический процесс у нашего пациента затрудняет реализацию унаследованных агрессивных тенденций, в связи с чем происходит трансформация ее в симптом, символически отражающей агрессию.
Касаясь личностных особенностей нашего пациента следует подчеркнуть сочетание истерических черт (лживость, внушаемость, героическая поза сопротивления) с проявлениями депрессии при психометрическом исследовании. Распространенная точка зрения, что психогенные неврологические симптомы, как правило, встречаются у истерических личностей оказалась ошибочной. По данным литературы первое место у больных с психогенными неврологическими расстройствами занимает депрессивный синдром (до 38% ) а истерические личностные черты обнаруживаются лишь у 9%. ( 1, 7, 13).
БИБЛИОГРАФИЯ.
1. Арзуманян А.М., Голубев В.Л. Истерические гиперкинезы. Журн.
невропатол. и психиатр. им. С. С. Корсакова 1988; N6: с 80-84.
2. Голубев В. Л. Гиперкинетические синдромы (клинико-
физиологический анализ) . Дисс. докт. мед наук. Москва , 1982.
3. Дюкова Г. М., Голубев В. Л. Неврологические подходы к
диагностике истерии. Журн. неврологии и психиатрии им. С. С.
Корсакова. 1994,N 5, с. 95-100.
4. Родштат И.В., Дюкова Г.М., Яхно Н.Н. и соавт. Клинический анализ неврологических проявлений истерии. — Журн. Невропатологии и психиатрии им. С. С.Корсакова, 1976, N 8, с.28-31
5. Шимригк К. Критерии неорганических нарушений движений. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 1996, N 3, с 90-92.
6. Batshaw M. L., Wachtel R. C., Deckel A. W. Munchausen’s syndrome
simulating torsion dystonia. The New Engl. J. Med. 1985, 312. N
7. Factor S. A., Podskalny G. D., Molho E. S. Psychogenic movement
disorders: frequency, clinical profile, and characteristics. J Neurol
Neurosurg Psychiatry. 1995; 59: p. 406-412.
8. Fahn S., Williams D. T., Psychogenic dystonia. Adv. Neurol. 1988,
9. Fahn S., Bressman S. B., Brin M. F. Dystonia. In Merritt’s textbook of neurology. ed. Rowland L. P. 1995. p. 705-712.
10. Koller W. , Lang A. Psychogenic tremors. Neurology 1989, 39, p. 1094-1099.
11. Lang A. E. Psychogenic dystonia: a review of 18 cases. Can J Neurol
Sci 1995; 22: p. 136-43.
12. Lempert T., Brandt T., Dieterich M., et al. How to identify psychogenic disorders of stance and gait. J. Neurol. 1991, 238, p. 140-146.
13. Lempert T, Dieterich M, Huppert D, et al. Psychogenic disorders in neurology: frequency and clinical spectrum. Acta neurol Scand.1990; 82: p. 335-40.
14. Marsden CD. Hysteria-neurologist’s view. Psychol Med. 1986; 6: p. 277-288.
15. Saver J. L., Salloway S. P., Devinsky O. at al. Neuropsychiatry of Aggression. In: Neuropsychiatry. ed. B. S. Fogel, R. B. Schiffer, S. M. Rao., изд. Williams and Wilkins., 1996. p. 523-548.
Источник