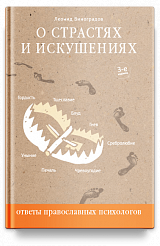Как отличить уныние от депрессии?
Не бежать от трудностей жизни
– Наталия Владимировна, легко ли психологу отличить уныние, когда достаточно психотерапевтической помощи, от депрессии, когда без лекарств не обойтись и надо перенаправить человека к психиатру?
– Опыт показывает, что есть состояния, при которых необходима помощь психиатра и невозможно обойтись без медикаментозной поддержки. Когда на прием приходит человек крайне подавленный, который тебя практически не слышит, не воспринимает, смотрит в никуда – лицо похоже на застывшую маску скорби, – то в данной ситуации участие психиатра часто необходимо. Такие состояния требуют тонкой профессиональной диагностики.
Мы, психологи, должны понимать, где заканчивается наша компетенция и где начинается компетенция врачей. Это же относится и к психиатрам. Ситуации, связанные с невротическими искажениями личности, коммуникацией, самооценкой, самоотношением, – иными словами, отношением с самим собой и с миром, – невозможно решить с помощью фармакологии, тут необходим психолог.
Очень важно выявить причину того состояния, которое беспокоит человека, и работать прежде всего с причиной, а не с ее следствиями. Подавленное состояние не всегда связано с клинической депрессией, оно может быть результатом тяжелой душевной травмы. Бывает, что в жизни все рушится, и человек не выдерживает ударов судьбы, проваливается в депрессивное состояние. У меня было много клиентов, которые именно так реагировали на испытания. Это могут быть самые разные ситуации – от переезда в другой город до потери близкого. Реакция человека зависит от многих факторов: устойчивости нервной системы, семейной ситуации (благополучна она или нет), наличия поддержки и жизненных опор. Большую роль играет и фактор веры. То есть работают и наследственные уровни, и социальные, и личностные, и духовные.

Я консультировала недавно одну женщину. На нее свалилось невероятное количество испытаний: супруг подал на развод, дочь заболела, квартиру обокрали, на работе начались проблемы. Весь ее уклад обвалился, жизнь превратилась в руины. Она пришла ко мне в очень тяжелом состоянии. Я направила ее на консультацию к психиатру, с которым давно и плодотворно сотрудничаю. Но в данном случае курс антидепрессантов был сведен к минимуму. Понадобилось сравнительно немного времени, чтобы она вышла из депрессии. Ей было важно найти новые точки опоры в сложившейся ситуации, не выживать, а жить, и жить плодотворно. Когда ей удалось понять и принять то, что произошло, когда стало понятно, что старого не вернуть, когда она обрела новые, значимые для нее смыслы, стало ясно, что терапия закончена.
Есть точка зрения, что человек должен сам преодолевать те испытания, которые ставит перед ним жизнь. Австрийский психиатр Виктор Франкл говорил о том, что человек должен не бежать от трудностей жизни, а встречаться с ними лицом к лицу, говорить жизни «да». Я полностью разделяю этот подход, он мне очень близок. Человек, сталкиваясь с испытаниями и преодолевая их, все больше обретает самого себя, все в большей степени становится личностью. Но бывают особые ситуации, когда просто нет внутренних ресурсов для борьбы. Перед психологами и психиатрами стоит не только профессиональная, но и нравственная задача: с одной стороны, облегчить страдания человека, с другой стороны, помочь ему вырасти личностно, духовно. Это очень важный и сложный для каждого человека вызов, который надо принимать серьезно и ответственно. Поиск ответов на эти вопросы должен объединить сегодня и психологов, и психиатров, и священников в общем пространстве диалога. Поле дискуссии должно охватывать разные уровни человеческого бытия: и телесность (физиологию, работу центральной нервной системы и прочее), и душу (сознание, чувства, волю), и дух (веру, любовь, смысл).
Если передо мной как психологом стоит сложная духовно-нравственная задача моего клиента, я всегда советуюсь со своим духовником, поскольку психология не должна заниматься духовными проблемами, точнее – не должна решать их. Это уже прерогатива священника. Мои знакомые психиатры действуют в похожих ситуациях по такому же принципу, и мне кажется, что это правильно, поскольку наша общая задача – помочь человеку двигаться по пути спасения, а не застрять где-то на повороте судьбы.
Если нам приходится иметь дело с клинической ситуацией, с клиническим диагнозом, то синергийный подход тем более важен. Задача психиатра тогда состоит в диагностике, в подборе медикаментов для нормализации процессов мозговой деятельности. Задача психолога – выявить психологические проблемы, усугубляющие ситуацию, и искать внутренние опоры, помогающие человеку справляться со своим состоянием.
Могу для примера вспомнить одну пациентку, у которой был маниакально-депрессивный психоз. Ее вел очень хороший психиатр, который подобрал точную медикаментозную терапию. Глобально наша задача состояла в том, чтобы пациентка научилась жить рядом с болезнью, а не внутри нее. Мы затрагивали разные аспекты ее жизни, ее отношения с родителями, ее самооценку, трудности коммуникации и так далее.
В результате, когда она в очередной раз вошла в фазу мании (испытывала подъем, была уверена в себе и своих силах, легко и творчески общалась и работала – благодаря удачно подобранной врачом терапии она не «улетала» в состояние, когда море по колено), то сказала: «Пока я на подъеме, мне надо достичь определенных реальных результатов, чтобы во время депрессии, когда мне будет казаться, что я ничего не могу и ничего не стою, у меня были объективные доказательства моей состоятельности».
Она научилась распознавать свои «взлеты», то есть периоды мании, и свои «падения», то есть периоды депрессии, стала готовиться к ним, перестала ставить перед собой невыполнимые задачи, но старалась достичь результатов, которые были бы для нее реальными. Таким образом, ее жизнь не просто вошла в приемлемую колею – она невероятно выросла как личность, стала более взрослой, мужественной, ответственной. Более того, она пришла в Церковь, и ее жизнь обрела духовный горизонт.

Иметь или быть
– К вам часто приходят люди, которые считают, что у них просто тоска, когда на самом деле у них клиническая депрессия?
– Редко. Обычно с клинической депрессией я сталкиваюсь, когда психиатр направляет ко мне своего пациента, потому что ему наряду с медикаментозным лечением нужна помощь психолога. Бывает, конечно, что люди сами ставят себе диагноз, думают, что у них психологические проблемы, но уже при первом общении становится понятно, что это болезнь.
Вообще слово «депрессия» сегодня употребляется очень широко. Помню, как-то раздался телефонный звонок, и молодой мужчина звонким голосом сообщил, что крайне нуждается в моей помощи. Я спросила: «А на что вы жалуетесь?» Он ответил бодро и почти весело: «У меня депрессия». Этот случай можно отнести к разряду шуток.
Конечно, люди чаще путают депрессию с апатией, тоской и так далее. Как правило, за этой тоской стоят экзистенциальные проблемы: потеря смысла собственной жизни, потеря контакта с самим собой на глубинном уровне. Современный человек предпочитает жить на поверхности, особо не погружаясь в глубину. Ему кажется, что внешняя жизнь со всеми ее разнообразными атрибутами и есть то, ради чего он существует на этой земле. Такая поверхностная жизнь с неизбежностью будет порождать глубинную неосознаваемую тревогу. Именно от нее, от этой глубинной тревоги, человек пытается убежать. Он ищет все новых развлечений, отвлечений, но шум жизни не заглушит экзистенциального зова его души.
Только отвечая на вопрос «Зачем я живу?», человек начинает двигаться в направлении духовных ценностей, которые открывают ему иные горизонты и масштабы бытия. Мы живем в эпоху «общества потребления». Этот термин принадлежит выдающемуся психологу Эриху Фромму, автору книги с блестящим названием «Иметь или быть?».
«Иметь» – это значит обладать, завоевывать, покупать, продавать, властвовать, то есть воспринимать мир как вещь, полезную или бесполезную, удобную или не очень, красивую или безобразную. «Быть» – это значит любить, создавать, сострадать, творить, радовать и радоваться, быть открытым всей полноте жизни и благодарным за то, что есть в данный момент. Так вот, сегодня желание «быть» – редкое явление, в основном люди живут в логике «иметь».
Кстати, с этим выбором связаны многие духовные и психологические кризисы, в частности, кризис среднего возраста. Пока человек молод, полон сил и энергии, амбиций и планов на будущее, он «завоевывает мир»: делает карьеру, покупает квартиру, дом, машину, обзаводится семьей, ездит отдыхать. Но с каждым годом все яснее понимает, что никакие достижения не сделают его счастливее. Мир в кармане, а счастья нет.
Я недавно консультировала одну очень преуспевающую женщину. Она сделала прекрасную карьеру, вырастила замечательных детей. Но запрос был серьезным – тоска, глубинная тревога, ощущение бессмысленности жизни, потеря связи с собой. Она назвала это состояние депрессией, однако в данном случае речь шла вовсе не о депрессии, а именно об экзистенциальном кризисе. При этом у нее был чудовищный страх стать бедной, именно поэтому она должна была все время работать, чтобы зарабатывать все больше и больше. Дело в том, что ее детство пришлось на девяностые годы, семья голодала, отца уволили с работы, он стал пить и вскоре умер. Ее мать крутилась как белка в колесе, смогла поднять обеих дочерей и дать им хорошее образование.
Самый пик трудностей пришелся на подростковый возраст моей клиентки, и ужас бедности, страх голода застрял в ней на долгие годы. Всю свою сознательную жизнь она стремилась обезопасить себя и свою семью от бед и страданий, но в результате стала защищаться от самой жизни и потеряла контакт с ней. Речь идет не о внешних атрибутах жизни, а о том глубинном бытии, контакт с которым позволяет нам чувствовать себя живыми, а значит, способными радоваться, благодарить, любить, сострадать, творить.
Я помню один очень яркий момент в работе с этой женщиной. Она рассказывала о том, что в класс к ее сыну попала девочка-инвалид, у которой была «сухая» ручка. Моя клиентка негодовала и возмущалась мамой этой девочки: «Неужели она не понимает, что ставит под удар не только своего ребенка, но и всех наших детей? Ведь это же страшное уродство. Почему мой ребенок должен видеть такое?!» Ее попытка защитить себя от всего, что пугало и тревожило, плавно перенеслась и на сына, его она тоже захотела отгородить от всего, что могло испугать или потревожить. Ей не приходило в голову, что такой опыт встречи с чужой болью, чужим страданием является уникальной возможностью для ее ребенка и для всех детей в классе стать более человечными, сострадающими. Я попыталась объяснить ей, как повезло детям, в том числе ее сыну, что в их классе есть такая девочка. Умом она, пожалуй, меня поняла, но не сердцем. На уровне души она отвергала любой дискомфорт. Все, что тревожило, заставляло ее бояться. Но при этом она не могла преодолеть в себе самой все тот же страх и все ту же тревогу, от которых безуспешно пыталась убежать.
Счастье как побочный продукт
– Удается ли повернуть к глубоким экзистенциальным вопросам людей, настроенных на карьеру, на успех?
– Как правило, удается, но при определенных условиях. Одна из главных психологических иллюзий современного человека состоит в том, что он должен быть счастлив во что бы то ни стало, и всю жизнь он начинает строить таким образом, чтобы осуществить эту мечту. Ему кажется, что каждый шаг, каждый успех, каждое достижение – лишь ступенька, приближающая его к вершине счастья, а любая неудача, любой, даже мелкий промах отводят его от этой вожделенной мечты. Но опыт показывает, что это абсолютная иллюзия, мираж. Счастье – всегда «побочный» продукт, мгновение, озаряющее человека в момент удачи. Устойчивой может быть только радость.
Радость – особое состояние, наполняющее нашу душу, когда мы ощущаем присутствие Бога, это глубокое чувство гармонии с миром, с собой и с другими людьми. Однако человек, целью которого является карьера, успех, редко способен радоваться. Речь не идет о бесконечной череде веселых празднеств, шум которых часто лишь маскирует внутреннее одиночество и пустоту. Радость – это глубокое, светлое чувство связи с миром истины и красоты. Оно наполняет нас светом и благодарностью, примиряет с обстоятельствами, наполняя сердце принятием и прощением.
По сути, это состояние противоположно унынию. Если радость всегда связана с созиданием, созерцанием, благодарностью, то уныние, напротив, порождают обманутые или неутоленные желания. Весь современный мир толкает человека к унынию – реклама, кинематограф, телевидение создают сладкий миф, вожделенную иллюзию, которая становится для массового сознания манящим миражом. Реальность на этом фоне оказывается пресной, скучной, бессмысленной, и человек устремляется в сказочный виртуальный мир, которого никак не может достичь.
Мало кто задумывается о том, что жизнь – это встреча с реальностью, а бег за миражом – псевдосуществование. Первое ведет к полноте, глубине, радости и благодарности, второе – к унынию, опустошенности и одиночеству.
Если психологу удается подвести человека к осознанию и принятию этих глубинных, бытийных, экзистенциальным проблем, то мы оказываемся на пути к личностному становлению и обретению подлинного смысла собственной жизни.
Источник
О том, когда без психологии обойтись невозможно
В православной среде к психологии относятся настороженно. Есть даже мнение, что это такая псевдонаука, которая стремится заменить собой религию. Опасения эти совершенно бессмысленны — академическая психология не занимается духовными вопросами. Да, психическая и духовная области тесно взаимосвязаны, но граница между ними все-таки есть. И профессиональный психолог (о самозванцах мы сейчас не говорим) никогда не будет вторгаться в религиозную жизнь человека. У него другая цель — он работает с травмами, с неврозами, с тем, что, кстати говоря, часто мешает людям полноценно жить духовной жизнью. Ведь у человека с серьезными психологическими проблемами и религиозность будет иметь искаженный, болезненный характер.
Любой священник в своей практике сталкивался с такими прихожанами. В их религиозных переживаниях, в их исповеди всегда сквозит какой-то надрыв, боль, неестественность. Это значит, что духовная жизнь человека стала продолжением его душевной травмы. И до тех пор, пока он не получит профессиональную психологическую помощь, духовная составляющая его жизни будет иметь карикатурные формы.
Опыт показывает, что самые непримиримые противники психологии — это как раз те, кто наиболее остро нуждается в помощи. Есть такой закон, многократно проверенный на практике: если человек утверждает, что у него нет никаких психологических проблем, это симптом серьезного психологического неблагополучия. Люди боятся открывать свои душевные раны. Почему? Только ли потому, что не доверяют психологам? Не думаю. Скорее всего, основная причина — это страх разбередить то, что как будто уже забылось и не тревожит. А может быть, это наивная детская надежда на то, что все как-нибудь само устроится.
Мне это напоминает страх, который люди испытывают перед анализом на онкомаркеры. Онкологи давно говорят о том, что на ранних стадиях рак излечим! То есть у человека есть все шансы справиться с болезнью, но для этого ее необходимо вовремя обнаружить. Но почему-то никто, зная это, не спешит в поликлинику и не выстраивается в очередь, чтобы сдать анализ на злокачественные клетки. Более того, даже получив направление на обследование, многие так до него и не доходят. Вот что-то похожее происходит и с психологией. Человек отрицает психологические проблемы, пытается спрятать их за религиозной терминологией. Да, действительно «чревоугодие» звучит гораздо благороднее, чем «обжорство» или «булимия». Но каяться в страсти чревоугодия, страдая булимией, абсолютно бесполезно. Это психологическая (а подчас и психиатрическая) проблема. Сколько ни исповедуйся — ничего не изменится. Человек хватается за духовный инструментарий, он не срабатывает, и духовная жизнь принимает извращенные формы. Вот для того, чтобы этого не происходило, и нужна психология.
Священник Петр Коломейцев
Как отличить уныние от депрессии
Когда человек утрачивает интерес к жизни, когда у него заметно снижается активность, в том числе и религиозная, если он верующий, это может быть и феноменом духовной жизни, и состоянием, болезненным в медицинском смысле. Первое состояние святые отцы определили как уныние, второе в медицине называется депрессией, хотя неспециалисты как в церковной среде, так и в нецерковной, употребляют слова «уныние» и «депрессия» достаточно расплывчато. Например, многие депрессией называют любое подавленное состояние, а на самом деле далеко не всегда это состояние болезненное, то есть требующее помощи врача. Более точно определить эти понятия и разграничить их могут и должны специалисты.
На мой взгляд, наиболее успешно и содержательно это можно сделать на основе трихотомического видения человека — дух, душа и тело. Тело — это органы и системы органов в их взаимосвязи и взаимодействии. Нарушением их функционирования занимаются специалисты по внутренним болезням. Как органы и системы представляют основу нашего телесного существования, так душевные процессы — восприятие, мышление, эмоции, память, воля, моторика — являются инструментами психической деятельности. Они существуют не сами по себе, а всегда наполнены тем или иным содержанием — религиозным, познавательным, эстетическим, нравственным. Это и есть сфера духовного — смыслы, ценности, то, что человек ставит выше себя, ради чего он живет (это медицинское, клиническое понимание духа, оно отличается от богословского). Уныние при таком подходе располагается в сфере духовного, а депрессия (в медицинском понимании) — душевного. Если человек приходит к врачу и жалуется на потерю смысла, интереса к жизни, надо посмотреть, не стои́т ли за этой утратой набор клинических признаков депрессии. Они хорошо изучены, их можно выявить, но это требует от врача знаний, времени и душевных усилий.
Есть три основные группы депрессивных расстройств: психогенные, соматогенные и эндогенные. Психогенные — это, как в старину говорили, психозы от ударов судьбы. Соматогенные — телесно обусловленные депрессии, возникающие вследствие различных внутренних заболеваний: терапевтических, хирургических, неврологических, мозговых. Эндогенные депрессии не обусловлены ни физическим состоянием, ни жизненными обстоятельствами, во многих случаях так и не удается найти четких причин, поэтому они называются эндогенными — возникающими изнутри. Может, даже лучше сказать, ниоткуда — есть в эндогенной депрессии, в самом определении, некоторый привкус фатальности.
Но я думаю, что при разграничении с унынием как духовным феноменом важно учитывать и другой подход к депрессии — как к сложному психопатологическому образованию. При клинической депрессии обычно отмечают пониженное настроение, заторможенность. Некоторых пациентов тяготит особое содержание мыслей — иногда самообвинение, а иногда переживание бессмысленности жизни, ее бессодержательности. Психологи такую депрессию называют экзистенциальной или депрессией духа. В психиатрии иногда выделяют депрессию с так называемой моральной анестезией, когда пациент (здесь мы говорим именно о больном) считает себя неспособным к жизни, не соответствующим тем нравственным, моральным требованиям, которые предъявляют человеку общество, окружающие, вера (для людей религиозных).
Ищем причины, изучаем душевный склад пациента, пытаемся понять, была ли в этом складе изначальная предрасположенность к болезни. Все эти подходы, параметры позволяют определить, стоит ли за внутренним опустошением болезненное снижение интереса к жизни или это какой-то поворот, зигзаг на духовном пути, потому что для человека, ответственного по отношению к себе и к своей жизни, неизбежны и моменты сомнений, тревог, какого-то побледнения идеалов. Не всякое субъективно тягостное негативное переживание есть болезнь в психиатрическом смысле. Значит, в одном случае будет лечить врач, в другом желательна помощь психолога, священника.
Борис Воскресенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии Российского государственного медицинского университета.
Как сребролюбие разрушает личность?
Когда основным мотивом становится зарабатывание денег, все остальное уходит на второй план. Соответственно рушатся отношения с другими людьми, не только с ближайшими родственниками. Потом, если дело доходит до развода и раздела имущества, такой человек судится за каждую мелочь, лишь бы оставить себе как можно больше. И это с женщиной, которую когда-то любил и прожил с ней не один год, имеет общих детей! Страсть сребролюбия поглотила его настолько, что он уже не способен к нормальным человеческим взаимоотношениям. И как бы он ни был внешне успешен, признан, постепенно он оказывается в экзистенциальном вакууме.
Второй очень важный момент — за личностный рост, за духовное развитие человеку, как правило, не платят. Поэтому всегда есть выбор: либо тратить все время и силы на то, чтобы получать больше денег, либо развиваться. Конечно, если ты развиваешься, со временем это, скорее всего, принесет и материальные плоды — личностный рост включает в себя и профессиональный, соответственно, рано или поздно тебя оценят, и ты сможешь более или менее прилично зарабатывать. Но это ж надо пускаться в «дальнее плавание», и еще не известно, чем оно закончится, а есть возможность заняться тем, что принесет деньги сразу. Многие выбирают второй вариант, действительно начинают получать хорошие деньги, но очень часто именно в этой точке останавливается рост не только личностный, но и профессиональный.
Потом возникает самая большая проблема — человек умеет зарабатывать деньги, зарабатывает много, но уже не понимает, зачем, не помнит, ради чего делал это раньше. Он теряет смысл жизни, впадает в депрессию — Виктор Франкл называл такую депрессию ноогенной. Деньги много чего дают, но только не смысл. Если я делаю что-то для другого, он меня благодарит, появляется некий энергообмен. Или на природе: я посадил дерево и, когда оно вырастает, чувствую отдачу. А если моя единственная цель — заработать, энергообмена нет, потому что сами деньги никакой энергии не несут. В результате человек эмоционально и психологически истощается, причем довольно быстро.
От сребролюбия личность разрушается так же, как от других страстей, просто не так быстро, как от того же алкоголизма. Ты не валяешься под забором, зарабатываешь большие деньги, ездишь на дорогих машинах на всякие важные встречи, тобой восхищаются, но по каким-то признакам — либо по депрессии, либо по все более частому желанию напиться, либо по проблемам в семье, либо еще по чему-то — ты поймешь: что-то в твоей жизни не так.
Денис Новиков, психолог, доцент Высшей школы психологи
Источник