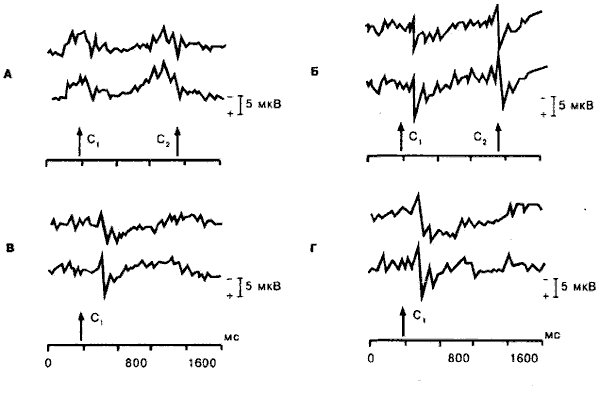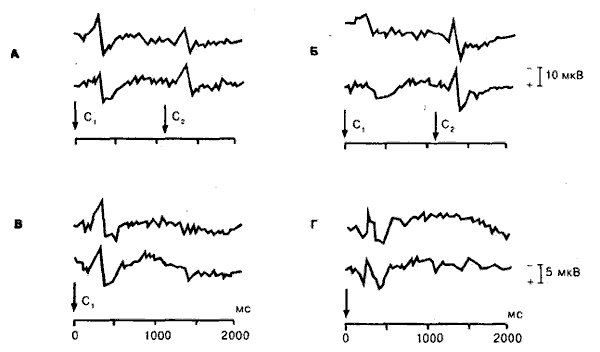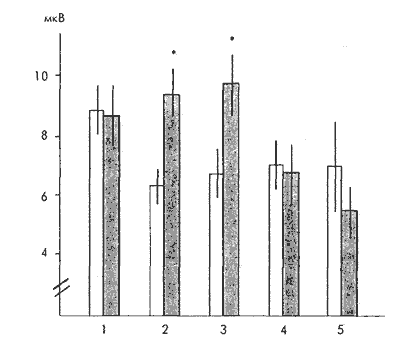- ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Психофизиология сознания и бессознательного
- НАСТРОЙКИ.
- СОДЕРЖАНИЕ.
- СОДЕРЖАНИЕ
- Глава 4. Реакции коры полушарий на осознаваемые и неосознаваемые слова
- Безотчетные эмоции
- Безотчетные эмоции могут возникать у здоровых людей
- Психофизиология бессознательного
- 1. ПОНЯТИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
- 2. ИНДИКАТОРЫ ОСОЗНАВАЕМОГО И НЕОСОЗНАВАЕМОГО ВОСПРИЯТИЯ
- 3. СЕМАНТИЧЕСКОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ НЕОСОЗНАВАЕМЫХ СТИМУЛОВ
- 4. ВРЕМЕННЫЕ СВЯЗИ (АССОЦИАЦИИ) НА НЕОСОЗНАВАЕМОМ УРОВНЕ
ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Психофизиология сознания и бессознательного
НАСТРОЙКИ.
СОДЕРЖАНИЕ.
СОДЕРЖАНИЕ
Посвящаю моей жене Саломее Ивановне
С древних времен и до настоящего времени мыслящего человека волнуют вопросы о соотношении между душой и телом, психикой и мозгом, сознанием и бессознательным. Они всегда были и остаются ареной ожесточенных религиозно-философских споров и предметом научных дискуссий естествоиспытателей. Наука о поведении зарождалась постепенно, на протяжении последних двух веков. Вначале это были в основном сопоставления между повреждениями отдельных участков мозга и изменениями сознания и поведения человека. Однако уже со второй половины XIX в. величайшие открытия в естествознании подготовили почву и дали мощный импульс для формирования физиологических теорий и экспериментальных исследований поведения человека и животных. Это учение Ч. Дарвина (1809-1882), открывшее миру законы трансформации организмов и сохранения вида путем естественного отбора, а также учение К. Бернара (1813-1878) о гомеостазе, т.е. о саморегуляции постоянства внутренней среды организма в условиях непрерывно меняющихся воздействий окружающей среды. Они в значительной мере обусловили отход естественнонаучной мысли от принципов
Идея рефлекса на протяжении нескольких веков была в физиологии одной из основополагающих. Она наиболее четко выражена в понятии о трехзвенной рефлекторной дуге: афферентный (чувствительный) нерв — центральная нервная система (спинной и/или головной мозг) — эфферентный (исполнительный) нерв. Согласно этой схеме, поведению присуща в некотором роде машинообразность, в которой определяющее значение имеет характер стимула, а также конструкция и состояние тех участков мозга, на которые этот стимул воздействует. При этом как несомненное принималось положение о том, что рефлекторный ответ всегда соответствует силе вызвавшего его стимула. В данной схеме отсутствовало понятие сознания. Эта отдельная психическая, душевная категория рассматривалась вне причинной теории поведения, вне принципов детерминизма.
Новые дарвиновские идеи о роли изменчивости и естественного отбора в развитии видов выдвинули на первый план проблему взаимодействия организма со средой, при котором физиологические процессы, происходящие в организме в ответ на стимулы, должны создавать в нем необходимые условия для активного вмешательства индивида в окружающую среду. Это принципиально сместило форму причинного объяснения поведения, поставив вопрос о значимости в его организации физиологических процессов, происходящих внутри организма. Последние развиваются в ответ на действие внешней среды и направлены на создание соответствия внешних и внутренних условий для наилучшего приспособления к ней и, следовательно, для выживания в непрерывной борьбе за существование. Эта форма причинности получила название
Принцип биологического детерминизма в науке о поведении получил наивысшее развитие в учении об условных рефлексах великого русского физиолога Ивана Петровича Павлова (1849-1936). Это учение выросло из довольно обыденного и хорошо известного наблюдения, которое выражают словами «слюнки текут», когда вид или запах пищи вызывают у голодного животного или человека слюноотделение. Психологи называли это явление психической секрецией. И.П. Павлова объяснение не удовлетворяло, поэтому он решил полностью отказаться от субъективного метода и говорить о результатах опытов с условными рефлексами только в терминах и понятиях физиологии. Чтобы оставаться в строгих естественнонаучных рамках, И.П. Павлов установил не только методологическое табу (не пользоваться психологическими терминами и понятиями для объяснения поведения животного), но и ввел методические ограничения в виде изоляции подопытного животного. Была даже выстроена специальная «Башня молчания» под Ленинградом в Колтушах, которая обеспечивала достаточно искусственные и однозначные условия опыта, где изучалось не целостное поведение, а его отдельные компоненты (условный слюнный рефлекс, оборонительный рефлекс отдергивания лапы). Подобный принципиальный редукционизм И.П. Павлова дал на определенном этапе развития науки о поведении колоссальное преимущество, позволившее отказаться от антропоморфических толкований поведения животного и создать учение о высшей нервной деятельности, открывшее пути естественнонаучного экспериментального исследования мозговых механизмов поведения.
По И.П. Павлову, посредником между стимулами окружающей среды и условными рефлекторными реакциями животного и человека служит динамика нервных процессов в больших полушариях головного мозга. Чисто метафорически автор сравнивал работу коры больших полушарий головного мозга с телефонной станцией, где идет переключение связей от одних абонентов к другим. Как справедливо отмечает А.С. Батуев (1993), в рамках такого взгляда на мозговые механизмы поведения не принимается во внимание важнейшая сторона целостного поведения животного или человека — его активность, объясняющая целеполагающий, целенаправленный характер поведенческих актов в вероятностно организованной среде. Не случайно еще в начале 1930-х гг. крупнейший отечественный психолог Л.С. Выготский (1896-1934) пришел к убеждению, что в метафору И.П. Павлова следует включить «телефонистку», не подменяя ее душой или другим «загадочным» образованием, изнутри правящим поступками человека.
Введение в сферу физиологического объяснения понятия об активности субъекта как существа, способного не только к саморегуляции, но и к самодетерминации, сделало необходимым исследовать так называемые внутренние состояния, формирующиеся в высших отделах головного мозга животных и человека. В последние десятилетия XX в. наступил когнитивный
И.М. Сеченов — автор идеи о
Психическая регуляция поведения была показана не только у человека, но и у животных: при первом же восприятии пищи, болевого раздражения или любого значимого события формируется их образ,
Источник
Глава 4. Реакции коры полушарий на осознаваемые и неосознаваемые слова
Безотчетные эмоции
У человека в определенных состояниях могут возникать так называемые безотчетные эмоции, когда он не в состоянии понять, почему у него изменилось настроение. Это эмоции, при которых сущность психического состояния исчерпывается неясными переживаниями приятного или неприятного. Они безотчетны, кажутся беспричинными, поэтому нередко назывались агностическими, эндогенными. Но в многочисленных исследованиях было показано: эти эмоции могут вызываться вполне реальными раздражителями окружающей среды, которые в данный момент не осознаются субъектом по ряду внешних и внутренних причин. Безотчетные эмоции, побуждаемые неосознаваемыми раздражителями, — довольно обычное явление при многих невротических состояниях и нервно-психических заболеваниях. На эмоционально лабильного человека может действовать масса абсолютно незначительных факторов. Безотчетные эмоции могут возникать и у практически здоровых людей в экстремальных условиях, при напряженной работе, особенно требующей быстрых переключений внимания, умственном переутомлении и т.д. Вероятно, в этих случаях эмоциональные реакции или состояния возникают на основе условнорефлекторной эмоциональной памяти без участия образной и словесно-логической.
Очевидно, следует также допустить существование в головном мозге человека чувствительного механизма, реагирующего на физически очень слабые, но психологически весьма значимые для личности стимулы, в частности словесные. Структурно-функциональная организация этого механизма не обеспечивает осознания эмоционально значимого слова, но его активация способна привести к целому ряду биоэлектрических и вегетативных реакций, а также к изменению некоторых психических функций.
Была предложена физиологически обоснованная гипотеза о том, как высшие отделы головного мозга «узнают» слово еще до его осознания (Костандов, 1977). Всякий раз, когда в условиях конфликтной жизненной ситуации на человека действует ряд раздражителей, вызывающих отрицательные эмоции, и организуется активное или пассивное оборонительное поведение, формируется или активируется сложная система временных связей. Они устанавливаются не только между нейронами новой коры, воспринимающими условные, в частности словесные стимулы, но одновременно между этими корковыми нейронами и нейронами структур лимбической системы, в которой интегрируются механизмы эмоционального поведения.
В случаях продолжительных или кратковременных, но сильных эмоциональных переживаний, например у людей, пребывающих в конфликтной жизненной ситуации, наибольшие пластические изменения происходят в нейронах лимбической системы, связанных с эмоциональным поведением, что и обусловливает повышение возбудимости ее структур. Эти изменения в синапсах и в постсинаптической мембране нейронов облегчают распространение возбуждения в структурах лимбической системы даже при очень слабой афферентной импульсации, например в случаях кратковременного воздействия эмоционально значимого стимула, как это было в многочисленных экспериментах с очень короткой экспозицией зрительных словесных стимулов. Поэтому в случаях эмоционального напряжения порог активации временных связей между сенсорными (и гностическими) нейронными комплексами новой коры, воспринимающими зрительные или слуховые словесные стимулы, и структурами лимбической системы может быть значительно ниже, чем порог возбуждения связей между разными участками внутри неокортекса, в частности между воспринимающими и моторными речевыми зонами.
Присущая человеку структурно-функциональная асимметрия полушарий головного мозга в значительной степени обусловлена наличием в левом полушарии моторного центра речи (область Брока).
Существует немало доказательств того, что в обоих полушариях имеются гностические речевые зоны, в которых осуществляется анализ и синтез словесных сигналов, но они не осознаются, если нервные импульсы из этих гностических зон не поступают в моторную речевую область. Тесная и необходимая связь сознания (и осознания окружающей среды) с речью отмечалась не только психологами и клиницистами-неврологами, но и философами. К. Маркс писал:
Язык так же древен, как и сознание; язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми (Сочинения. М., Политиздат, 1955. Т. 3. С. 29).
Положение о связи осознания явлений внешней среды с функционированием механизма передачи нервных импульсов от воспринимающих зон коры в моторный речевой центр и в высшие речевые зоны префронтальной области стало центральным пунктом гипотезы о физиологической основе подпорогового эффекта неосознаваемых слов. Он обусловлен разностью в величине порогов активации временных связей, составляющих функциональную систему, которая отражает неприятную или угрожающую жизненную ситуацию. Как уже упоминалось, порог активации структур лимбической системы в случаях длительных и/или сильных эмоциональных переживаний может значительно и надолго понижаться. В этих случаях словесные раздражители, сигнализирующие о конфликтной ситуации, например при их весьма кратковременном действии или при маскировке другими раздражениями, способны вызвать возбуждение временных связей между воспринимающими речевыми зонами и структурами лимбической системы, не активируя связи с моторной речевой областью. Таким образом, реакции, связанные с отрицательными эмоциями, в определенных случаях могут воспроизводиться лишь на основе условнорефлекторной эмоциональной памяти (имплицитной) без участия свойственной человеку словесно-логической памяти.
Возбуждение структур лимбической системы без активации моторной речевой области и зон префронтальной коры, связанных с высшими речевыми функциями, приводит к тому, что возбуждаются гипоталамические и стволовые механизмы ориентировочной и оборонительной реакций, хотя стимул, вызвавший эти реакции, не осознается. Возникающие при этом изменения настроения, а также различные вегетативные (кожно-гальваническая, дыхательная, сосудистая, сердечная) и биоэлектрические (активация коры головного мозга) реакции рассматриваются как эффект неосознаваемого эмоционального слова, обусловленный оживлением следов эмоциональной памяти. Таков, по современным представлениям, нервный механизм безотчетных эмоций.
В многочисленных экспериментах, проводимых на животных, удалось показать, что структуры лимбической системы, в которых организуются эмоциональные реакции и состояния, действуют на неокортекс, повышают или понижают его возбудимость. Эти восходящие влияния на новую кору со стороны лимбической системы могут изменять восприятие эмоционально значимых стимулов. В одних случаях, когда преобладают тормозные влияния, нарушается корковая обработка сенсорной, в частности словесной информации, что приводит к повышению порога осознания эмоционального стимула, т.е. к психологической защите. В других случаях могут преобладать облегчающие влияния, и тогда порог осознания будет понижаться. При этом следует учесть, что характер влияний лимбической системы на новую кору, а следовательно, и направленность пороговых изменений восприятия эмоциональных слов определяется сложным взаимодействием многих факторов, исходным функциональным состоянием коры больших полушарий и подкорковых структур. Здесь уместно вспомнить значение уровня мотивации субъекта для развития под-порогового эффекта неосознаваемых слов.
Ряд положений гипотезы о нервных механизмах, приводящих к повышению порога осознания эмоционально значимых стимулов и развитию безотчетных эмоций, получили экспериментальное подтверждение при регистрации вызванной электрической корковой активности.
Источник
Безотчетные эмоции могут возникать у здоровых людей
Правое полушарие воспринимает слово и адекватно реагирует на него, но при этом субъект не осознаёт ни этого слова, ни связи реакции с ним.
Психофизиология бессознательного
Основы психофизиологии, М. ИНФРА-М, 1998, с.220-243, Глава 12 Отв.ред. Ю.И. Александров
1. ПОНЯТИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
В процессе деятельности человека в постоянно меняющейся окружающей среде поступающая информация перерабатывается на разных уровнях центральной нервной системы. Переключение нервной сигнализации на филогенетически новый уровень происходит в том случае, если сохраняется возможность обработки информации и осуществления рефлекторного ответа на низших звеньях интеграции нервных процессов. Это хорошо видно на примере автоматизированного поведения, когда с упрочением навыка всё большая часть поступающей извне информации не доходит до сознания, а обрабатывается и переключается на эффекторную систему на более низких уровнях центральной нервной системы. Подобная организация обработки информации, поступающей в головной мозг человека, позволяет измерять в эксперименте чувствительность любой сенсорной системы с помощью регистрации различных реакций. Одни из них считаются показателем осознания раздражителя, для других последнее необязательно — это многообразные вегетативные, биоэлектрические, эмоциональные, поведенческие и психические реакции.
Решение давнего спора о том, следует ли у человека всё психическое отождествлять только с сознательным опытом или необходимо допустить существование бессознательных психических явлений, кроме естественнонаучного значения, имеет несомненный методологический аспект. Отрицание бессознательного с неизбежностью закрывает естествоиспытателю путь для выявления причинных связей и причинных отношений между отдельными явлениями психической жизни человека. Сознание, как писал Л. С. Выготский [1982], характеризуется перерывами и нередко отсутствием видимых связей между отдельными его элементами. Понятие бессознательного, заполняя пробелы между сознательными явлениями, позволяет изучать все психические функции у человека вплоть до самых высших форм с позиций детерминизма. Таким образом, бессознательное — это гносеологически необходимая категория. Исходя из этого принципиального положения, (а его справедливость подтверждается многими фактами, полученными в экспериментально-психологических и психофизиологических исследованиях), следует считать, что бессознательное — это такая же психическая реальность, как и сознательная психическая жизнь.
Понятие бессознательного нередко толкуется весьма широко и включает в себя все психические явления вне сферы сознания, т. е. те содержания психической жизни, о наличии которых человек либо не подозревает в данный момент, либо не знает о них в течение длительного времени, либо вообще никогда не знал. В качестве одного из примеров бессознательного можно привести факт неосознаваемости сигналов, непрерывно поступающих в головной мозг из самого организма, его внутренних органов, мышц, суставов. Бессознательное, понимаемое в узком смысле (по З. Фрейду) как вытеснение из сознания, возникает в онтогенезе у человека относительно поздно и, в известном смысле, является производной величиной от развития и дифференциации сознания [Выготский, 1982].
В современной психофизиологии всё большее признание получает термин «неосознаваемое». Он обозначает ряд неоднородных явлений. К ним следует отнести феномен, обозначаемый как предсознательное, — это содержания душевной жизни, которые в данный момент неосознаваемы, так как находятся вне сферы избирательного внимания, но могут легко стать осознаваемыми при переключении на них внимания.
Широкий круг психических явлений у человека в норме и патологии связан с неосознаваемым как подпороговым (по отношению к сознанию) восприятием эмоционально или мотивационно значимых, но физически слабых внешних сигналов, которые не достигают уровня сознания и не осознаются субъектом, однако вызывают вегетативные, биоэлектрические и эмоциональные реакции и могут влиять на процессы высшей нервной деятельности. Ещё одна форма неосознаваемого — это когнитивная установка, т. е. состояние готовности субъекта к определённой активности, которое формируется на неосознаваемом уровне при наличии двух основных условий: актуальной потребности у субъекта и объективной ситуации её удовлетворения.
Автор общей теории установки Д. Н. Узнадзе [1958] считал, что установка образуется без участия сознания и не является феноменом сознания, а отражает какие-то процессы, организующие на неосознаваемом уровне специфическое состояние психики, которое в значительной мере предваряет решение когнитивной задачи на сознательном уровне. Установка как бы заранее организует в конкретной ситуации направленность субъекта на определённую активность, готовность к той или иной форме реагирования и стратегию решения задачи. Кроме того, в организации на неосознаваемом уровне произвольных движений существенную регулирующую и координирующую роль играет установка, или, как её называет B. C. Гурфинкель [1995], «система внутренних представлений» (см. гл. 5).
Перед психофизиологией бессознательного стоят два основных вопроса:
а) можно ли у бодрствующего человека вызвать или выработать психические, поведенческие, эмоциональные и вегетативные биоэлектрические реакции (или состояния) на внешние стимулы, в частности, семантические, без осознания их человеком? и
б) как влияют эти неосознаваемые явления на психические функции и поведение субъекта, осуществляемые на сознательном уровне, и каковы физиологические механизмы подобных влияний?
2. ИНДИКАТОРЫ ОСОЗНАВАЕМОГО И НЕОСОЗНАВАЕМОГО ВОСПРИЯТИЯ
Проблема экспериментального изучения неосознаваемого восприятия сводится к попыткам выявить пороговую разницу между двумя индикаторами: один из них — показатель осознания стимула; другой — подпорогового (по отношению к осознанию) эффекта этого стимула. Разница в пороговой величине этих двух индикаторов составляет область бессознательного или неосознаваемого, в пределах которой внешний стимул может вызывать вегетативные и биоэлектрические реакции, а также влиять на поведенческие и психические функции человека.
Первое экспериментальное изучение зоны неосознаваемого было осуществлено Г. В. Гершуни [1977] путем вычисления количественных отношений между силой звуковых или электрокожных раздражений, которые ощущаются субъектом и вызывают различные ориентировочные реакции (расширение зрачка, кожно-гальваническая реакция, реакция депрессии альфа-ритма и дыхательная реакция). Неосознаваемая зона, в пределах которой неощущаемые звуковые стимулы вызывают биоэлектрические или вегетативные реакции, была особенно чётко выражена в этих исследованиях при патологии головного мозга, приводящей к астении и понижению возбудимости сенсорной системы. Например, у больных с воздушной контузией головного мозга кожно-гальваническая реакция (КГР) вызывалась звуками на 30-40 дБ ниже порога слышимости. Величина этой зоны непостоянна, она колеблется в довольно значительных пределах, в зависимости от различных факторов, например эмоционального состояния исследуемого [Костандов, 1977].
О факте осознания стимула субъект сообщает в словесном отчёте или с помощью произвольной двигательной реакции. Наибольшие теоретические и методические трудности связаны именно с этими индикаторами сознания, так как они существенно зависят от критериев, которые субъект использует при принятии решения о наличии стимула и своей произвольной реакции на него . Формирование критерия определяется многими факторами: инструкцией экспериментатора; условиями опыта; наличием или отсутствием положительного подкрепления «попадания в цель» и отрицательного подкрепления «ложной тревоги»; размером того и другого; отношением исследуемого к подкреплению и вообще к эксперименту; его характерологическими особенностями («либералы» и «консерваторы»).
Согласно теории статистического обнаружения сигнала использование «консерватором» более строгого критерия принятия решения имеет непосредственное отношение к проблеме неосознаваемого восприятия [Holender, 1986]. По мнению авторов, отрицающих возможность достоверной регистрации в эксперименте эффекта неосознаваемого восприятия у здорового человека, «консерватор», использующий строгий критерий решения о соотношении «сигнал-шум» предпочитает не сообщать о существовании сигнала, если не уверен в его наличии, хотя он может при этом иметь о нем какую-то информацию. Авторы высказывают предположение о том, что неосознаваемое восприятие существует только в тех случаях, когда высокий уровень принятия решения о наличии сигнала неверно определяется исследователем как предел восприятия. Это предостережение весьма существенно и его необходимо учитывать. Конечно, исследуемые, которые боятся совершить ошибку в условиях опыта, когда от них требуется определённый произвольный ответ типа «да-нет», могут не сообщить о стимуле, в вербальной оценке которого они испытывают сомнения, хотя он в той или иной степени осознаётся. На такие раздражения нередко регистрируются биоэлектрические, вегетативные и другие реакции, которые могут ошибочно относиться на счёт неосознаваемого восприятия. Исследуемые «либералы», у которых критерий принятия решения о наличии стимула более низкий, чем у «консерваторов», дают больше положительных произвольных реакций за счёт ответов типа «мне кажется», «я догадываюсь». Понятно, что в этих случаях увеличивается вероятность межсигнальных произвольных реакций или «ложных тревог», но уменьшается количество «подпороговых» восприятий.
Для уверенной констатации в экспериментальных исследованиях факта неосознаваемого восприятия обязательно соблюдение следующих трёх критериев [Dixon, 1986]:
а) параметры стимула должны быть значительно ниже порога опознания;
б) в течение всего исследования, в многократно повторяемых пробах стимул ни разу не должен осознаваться и
в) необходимо обнаружить не только количественные, но и качественные различия между регистрируемыми физиологическими реакциями на осознаваемые и неосознаваемые стимулы. Последний критерий является определяющим для доказательства факта наличия неосознаваемого восприятия.
3. СЕМАНТИЧЕСКОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ НЕОСОЗНАВАЕМЫХ СТИМУЛОВ
Впервые в эксперименте феномен неосознаваемого восприятия словесных стимулов был воспроизведен группой психологов «New Look» [McGinnies, 1944]. У здоровых людей (студентов) порог опознания эмоционально неприятных (табу) слов при их тахистоскопическом предъявлении был явно повышен по сравнению с нейтральными словами. При этом табу слова вызывали КГР при таких коротких экспозициях, когда исследуемые ещё не могли правильно назвать эти слова. Если исследуемые и высказывали догадки о табу слове, то они обычно не были связаны с экспонируемым словом. Уже в первых работах была сделана попытка дать нейрофизиологическое объяснение обнаруженному феномену. Предполагались два возможных механизма развития КГР ещё до того, как табу слово осознаётся: КГР — результат действия обратной связи из корковых ассоциативных центров или же прямого действия зрительных импульсов на таламус.
Феномен психологической защиты в виде повышения порога осознания эмоциональных слов был получен и экспериментальным путем. У взрослых здоровых людей предварительно вырабатывалась оборонительная условная реакция на отдельные слоги (при электрокожном подкреплении). После этого измеряли пороги зрительного опознания. Пороги опознания слогов, на которые вырабатывалась оборонительная реакция, были явно выше, чем на нейтральные слоги, хотя какой-либо разницы в степени употребления применяемых слогов в прошлом не было и нельзя считать, что исследуемый подавляет свою произвольную реакцию.
Исследователи, которые наблюдали в эксперименте повышение порога опознания эмоционально значимых слов, слогов или других объектов (например, изображения лица), регистрировали различные биоэлектрические и вегетативные реакции на стимулы, ещё неосознаваемые субъектом, или же отмечали их влияние на мотивацию, оценку величины или характера предъявляемых в последующем на надпороговом, осознаваемом уровне тест-объектов, на содержание представлений, образов, фантазий, на мнемонические способности, на принятие решения о выборе реакции (см. [Костандов, 1977, 1983; Velmans, 1991]). В частности, в серии исследований регистрировались корковые вызванные потенциалы на отдельные слова, которые исследуемые не могли прочесть, так как на экране они были небольшой яркости и предъявлялись на очень короткое время (12-15 мс). Была выявлена чёткая разница в величине поздних компонентов коркового ответа (N 200 и Р 300 ) на нейтральные и эмоционально значимые слова [Костандов, 1983].
Подпороговый эффект неосознаваемых стимулов (в частности, эмоциональных слов) в этих исследованиях проявлялся только в случаях повышения порогов их опознания. Это дало основание считать, что неосознаваемое восприятие и феномен защиты восприятия, т. е. повышения порога осознания, — это две стороны одной медали. Поэтому физиолог, пытающийся исследовать нервные механизмы бессознательных психических явлений, неизбежно сталкивается с необходимостью выявления критических изменений в мозговых процессах, связанных с фактом осознания стимула.
Одно из критических условий осознания стимула — это время активации корковых клеток, участвующих в восприятии (см. также гл. 11). По данным В. Libet [1991] для процесса осознания стимула необходима определённая, минимум в несколько сот миллисекунд, продолжительность активации корковых нейронов. Слабое сенсорное раздражение может вызвать возбуждение корковых клеток, но если оно длится относительно непродолжительное время, то стимул не будет осознан. У бодрствующего человека с обнаженного воспринимающего участка коры регистрировалась реакция нейронов на раздражение кожи, которое не ощущалось, если ответ длился менее 300-500 мс. Этот факт, по предположению автора, может служить физиологическим подтверждением бессознательного восприятия.
Фактор определённого минимума длительности активации корковых нейронов может выполнять функцию фильтрующего механизма, не допускающего до сознания сенсорные импульсы, которые вызывают относительно кратковременные реакции. При этом В. Libet [1991] постулирует наличие некоего «контролирующего фильтрующего механизма», угнетающего или облегчающего восприятие сенсорного раздражения путем сокращения или продления периода активации корковых нейронов. Экспериментальную модель предполагаемого фильтрующего механизма автор гипотезы видит в опытах с феноменом обратной маскировки восприятия кожного раздражения, когда применяются два стимула с небольшим временным интервалом между ними. В случаях если второй стимул сильнее первого, то он оказывает угнетающее воздействие на процесс коркового возбуждения, вызванного первым стимулом, т. е. он как бы прерывает его, вследствие чего не происходит осознания этого первого сенсорного раздражения. В естественных условиях роль раздражителя, оказывающего обратное действие на сенсорные процессы путем укорочения периода активности нейронов коры больших полушарий, могут играть эндогенные мозговые процессы.
Данная гипотеза рассматривает один из возможных физиологических механизмов фрейдовского понятия «цензуры», когда какое-то явление внешнего мира не доходит до уровня сознания. Имеется ещё одна гипотеза, согласно которой происходит предсознательная (prior to awareness) оценка эмоционально значимых стимулов, в результате чего может изменяться уровень корковой активности и порог осознания стимула [Dixon, 1981]. Эта точка зрения не вызывает возражений, однако она не объясняет, каким образом центральная нервная система «узнаёт» стимул (в частности, словесный) ещё до того, как он осознаётся. Очевидно предполагается существование какого-то чувствительного мозгового механизма, реагирующего на физически очень слабые, но психологически для данного субъекта весьма значимые стимулы. Этот сверхчувствительный механизм на Основании информации, не достигающей уровня сознания, способен осуществлять семантическое дифференцирование отдельных слов, оценивать их эмоциональную значимость и затем повышать или понижать порог их осознания.
Большинство фактов семантического дифференцирования на неосознаваемом уровне были получены в условиях «психологической защиты», т. е. повышения порогов осознания эмоционально значимой словесной информации. Однако у лиц с так называемым синдромом «игнорирования» (неглект — «neglect»), который появляется в результате поражения правого полушария, явление неосознаваемого семантического анализа наблюдалось со стимулами, не имеющими для субъекта особого эмоционального значения [McGlinchey-Beroth et. al., 1993; Marshall, Halligan, 1995; Milberg et al., 1995; см. также гл. 5]. Отдельные слова нейтрального содержания, предъявленные в «игнорируемом» участке поля зрения, сохраняются в памяти в форме «priming»: их вербального описания и осознания не происходит, но они подвергаются семантическому анализу и оказывают влияние на когнитивную деятельность, осуществляемую на сознательном уровне. Вероятно (может, и нередко) осуществление семантического анализа на неосознаваемом уровне и у здорового человека, в случае, когда словесные стимулы действуют вне фокуса его внимания [Velmans, 1991].
Таким образом, появляется всё больше данных о реальности семантического анализа на неосознаваемом уровне не только в случаях психологической защиты при повышении порога осознания эмоционально значимых слов, но и в случаях действия вербальных стимулов вне поля фокусированного внимания субъекта. Однако далеко не всегда приводятся твердые доказательства того, что словесный стимул хотя бы частично не осознаётся и, вследствие индивидуальных особенностей испытуемого, не сообщается им, так как испытуемый не полностью уверен в наличии данного стимула. Это наиболее трудная и важная проблема экспериментального исследования бессознательных психических явлений.
4. ВРЕМЕННЫЕ СВЯЗИ (АССОЦИАЦИИ) НА НЕОСОЗНАВАЕМОМ УРОВНЕ
Из наблюдений психиатров известно, что в определённых случаях неосознаваемые внешние сигналы, если они однажды или несколько раз совпадали с сильным отрицательным эмоциональным возбуждением, могут через месяцы и даже годы вызывать так называемые безотчётные эмоциональные переживания или даже невротические реакции, когда повод, вызвавший их в данное время, остается скрытым от сознания субъекта. Эмоция или невротическая реакция возникают как бы «беспричинно». На эмоционально неуравновешенного человека, особенно находящегося в невротическом состоянии, может действовать множество неосознаваемых им раздражителей, когда он не в состоянии отдать себе отчёт о причине изменения своего настроения или самочувствия. Безотчётные эмоции могут возникать и у здоровых людей в экстремальных условиях, при напряженной работе, особенно требующей быстрых переключений внимания, а также при умственном утомлении.
Попытки выработать в лаборатории у здоровых людей условный рефлекс на неосознаваемые стимулы приводили к неоднозначным результатам [Костандов, 1977, 1983]. Также весьма противоречивыми оказались наделавшие много шума в 50-х гг. нашего столетия сообщения о том, что неосознаваемые субъектом слова (например, на экране между кадрами фильма) могут существенно изменять его поведение, влиять на реакции выбора или внушать определённые действия. Чем обусловлены эти расхождения?
Сопоставление методических приемов, используемых в различных работах, показывает, что для проявления условно-рефлекторного эффекта неосознаваемых стимулов необходимо следующее: во-первых, чтобы они были эмоционально значимы, и, во-вторых, чтобы уровень мотивации или эмоционального напряжения был достаточно высок. Эти положения были подтверждены в исследованиях на людях, поведение которых в жизни определялось доминантой сверхценных идей ревности и связанными с ними отрицательными эмоциями или доминирующей мотивацией влечения к алкоголю [Костандов, 1983, 1994]. С целью выработки временной связи эмоционально или мотивационно значимое слово на экране сочеталось с условным стимулом — изображением полоски света (рис. 12. 1).
Рис.12.1 Вызванные потенциалы (схематизированы) на осознаваемые зрительные стимулы, действующие в паре, и на первый стимул, предъявляемый изолированно на следующий день после формирования ассоциации.
А — потенциалы на стимул С 1 — световая полоска с наклоном 20°, С 2 — нейтральное слово «трава»;
Б — потенциалы на стимул С 1 — световая полоска с наклоном 50°, С 2 — эмоциональное слово «арест»;
В — потенциалы на изолированное предъявление С 2 (20°) в следующем опыте после формирования ассоциации полоски со словом «трава»;
Г — потенциалы на изолированное предъявление световой полоски 50° в следующем опыте после формирования ассоциации полоски с эмоциональным словом «арест».
В каждом кадре верхняя кривая — вертекс; нижняя — зрительная область. Отклонение луча вверх — негативность. Стрелка — момент предъявления стимула.
В пробах, в которых второй в сочетаемой паре словесный стимул не осознаётся, амплитуда поздних компонентов коркового вызванного потенциала N 200 и Р 300 на условный стимул (полоска света) значительно меньше по сравнению с пробами, в которых слово осознаётся, или же оно хотя и не осознаётся, но не имеет эмоционального значения для исследуемого (рис. 12. 1 и 12. 2).
Рис. 12. 2. Вызванные потенциалы (схематизированы) на зрительные невербальные стимулы, сочетаемые с неосознаваемым нейтральным или эмоциональным словом
А — потенциалы на стимул С 1 — световая полоска горизонтальная (0°); С 2 — нейтральное слово «трава»;
Б — потенциалы на стимул С 1 — световая полоска с наклоном 45°; С 2 — эмоциональное слово «арест»;
В и Г — потенциалы на световые полоски, сочетаемые в предыдущем эксперименте соответственно с нейтральным и эмоциональным неосознаваемым словом.
Остальные обозначения те же, что и на рис. 12. 1
Условно-рефлекторные изменения вызванного ответа Р 300 более диффузны и происходят не только в зрительной области (как в пробах с осознаваемыми словами), но и в вертексе. Таким образом, амплитуда поздних вызванных ответов на условный стимул существенно зависит от сигнального значения второго в сочетаемой паре, «подкрепляющего» словесного стимула. В случаях когда «подкрепляющее» слово имеет отношение к доминирующей мотивации или эмоциональным переживаниям субъекта, но не осознаётся им, корковый ответ на условный стимул явно уменьшается, т. е. условно-рефлекторные изменения имеют прямо противоположный характер тому, что наблюдается при осознании того же «подкрепляющего» слова. Наличие качественной разницы в корковых реакциях, связанной с фактом неосознаваемости словесного стимула, служит убедительным доказательством реальности факта неосознаваемого восприятия семантической информации и влияния последней на корковые функции.
Естественно, перед исследователем встает вопрос о стойкости ассоциаций, формирующихся на неосознаваемом уровне. Эксперименты с угашением, когда на протяжении ряда дней многократно предъявлялся условный стимул без сочетания его с «подкрепляющим» словом, показали, что такие временные связи прочны, и они очень медленно угашаются (после многократных (500-600) проб, проводимых в течение 4-5 дней). Сравнение результатов, представленных на рис. 12. 3 и 12. 4, показывает, что временные связи, сформировавшиеся на неосознаваемом уровне, значительно медленнее угашаются, чем в пробах с осознаваемыми словами.
Рис.12.3 Динамика угашения временной связи, выработанной с помощью осознаваемого «подкрепляющего» слова у больных хроническим алкоголизмом
На оси ординат — амплитуда Р 300 на условный стимул (изображение полоски на экране); на оси абсцисс: светлые столбики — в пробах с сочетанием с нейтральным словом, заштрихованные — в пробах с сочетанием с эмоционально значимым словом «водка». 1 — до сочетания; 2 — при сочетании; 3, 4, 5 — дни опытов с угашением, т. е. на изолированное предъявление условного стимула. * — p
Возможности мозга Вспоминая что-то с подробностями мы незаметно для себя фантазируем, чтобы придать воспоминанию большую правдоподобность. Мозг не хранит точные данные, а всегда их реконструирует.
Статьи о природе сознания Благодаря развитию культуры (науки, техники и общества) сознание цивилизованного человека продолжает развиваться, хотя пределы сознания биологического человека может быть уже достигнуты.
Источник