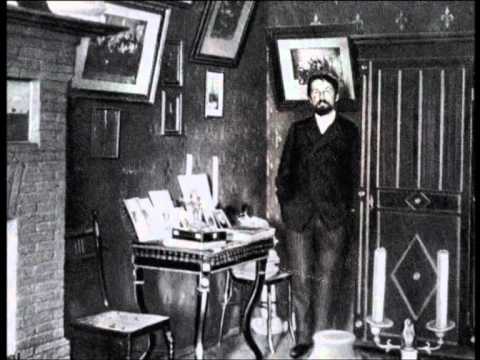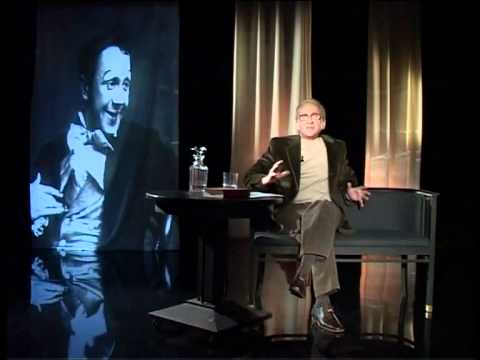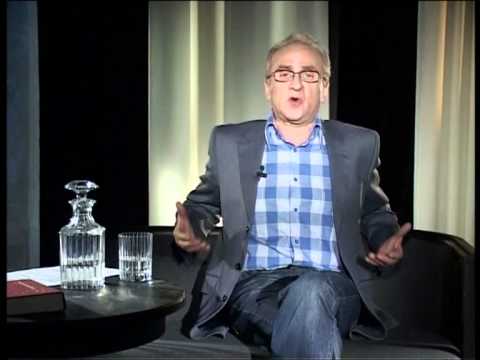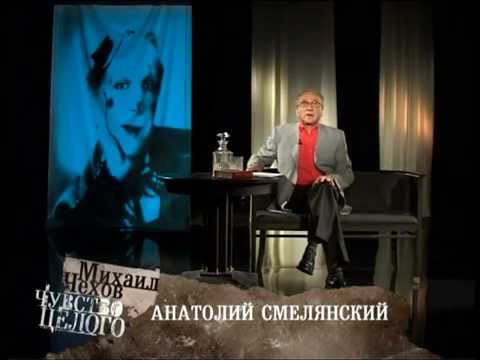- Чувство целого
- Серия 3. «Кризис»
- Серия 8. «Утопия Дартингтон-Холла»
- Серия 9. «Моральное резюме»
- Серия 1.«В его глазах блестит нервность»
- Серия 4. «Высшее Я»
- Серия 6. « Поэзия слабости»
- Серия 2. «Первая Студия»
- Серия 5. «Другой МХАТ»
- Серия 7. «Русский голос»
- Михаил Чехов. Чувство целого
- Предлагаемые обстоятельства
- Читая Чехова
Чувство целого
Год выпуска: 2009 Жанр: документальный Продолжительность: 25 минут * 9 серий Режиссер: Алексей Шемятовский В ролях: Ведущий и автор Анатолий Смелянский Замечательный историк театра, критик и ректор Школы- студии МХАТ Анатолий Смелянский создал цикл телевизионных программ, посвященный творческой и человеческой судьбе великого русского актера Михаила Чехова. В такой форме и в таком масштабе это первая на российском телевидении попытка исследовать жизнь и творчество великого артиста. В программе девять серий — девять точек судьбы Чехова. Подзаголовок — «чувство целого» — использует одно из коренных понятий в жизни героя, который мог творить только тогда, когда ощущал «чувство целого»: не только по отношению к сцене, но и по отношению к миру, который очень часто это искомое творческое чувство подрывал или уничтожал. Программа о том, как это чувство целого обретается художником, какой ценой оплачивается, как разрушается и обретается вновь.
Серия 3. «Кризис»
Анатолий Смелянский исследует причины душевной болезни Михаила Чехова
Серия 8. «Утопия Дартингтон-Холла»
В Дартингтон-холле Михаилу Чехову удается создать первую экспериментальную студию
Серия 9. «Моральное резюме»
Программа посвящена 13 годам жизни Михаила Чехова в Голливуде
Серия 1.«В его глазах блестит нервность»
Портрет отца и матери актера, многое определивших в самом характере дарования актера
Серия 4. «Высшее Я»
Через театр, через студию молодых актеров, которую Михаил Чехов открыл у себя дома, он приходит к новому пониманию жизни
Серия 6. « Поэзия слабости»
Последний год жизни Чехова в советской России
Серия 2. «Первая Студия»
Михаил Чехов начинает заниматься под руководством Станиславского, обретает духовного наставника — Леопольда Сулержицкого, и своего режиссера, Евгения Вахтангова
Серия 5. «Другой МХАТ»
Рождение Второго МХАТа
Серия 7. «Русский голос»
О приключениях Чехова в Германии, Франции, Литве и Латвии
Источник
Михаил Чехов. Чувство целого
Программа посвящена жизни и творчеству великого русского актера Михаила Чехова.
Авторская программа Анатолия Смелянского (Россия, 2009), 9 передач.
Автор Анатолий Смелянский.
Режиссер Алексей Шемятовский.
Оператор-постановщик Сергей Стариков.
Передача 1-я. «В его глазах блестит нервность»
Портрет отца и матери актера, многое определивших в самом характере дарования актера. Показ Константину Станиславскому в 1912 году. С этого момента начинается иная жизнь Михаила Чехова.
Передача 2-я. «Первая студия»
Михаил Чехов начинает заниматься под руководством Станиславского, обретает духовного наставника — Леопольда Сулержицкого, и своего режиссера, тогда тоже студийца, Евгения Вахтангова. В эти годы у актера психологический кризис, который ставит его на грань самоуничтожения.
Передача 3-я. «Кризис»
Анатолий Смелянский исследует причины душевной болезни Михаила Чехова. Мы сталкиваемся со сложным комплексом проблем одаренного человека. Все это происходит на фоне Первой мировой войны и двух русских революций. Из этих кризисов — личного и социального — Михаил Чехов выходит с заново обретенным «чувством целого».
Передача 4-я. «Высшее Я»
Через театр, через студию молодых актеров, которую Михаил Чехов открыл у себя дома, он приходит к новому пониманию жизни. В это время он создает образы Мальволио, Эрика ХIV, Хлестакова. Актер погружается в учение знаменитого антропософа Рудольфа Штейнера.
Передача 5-я. «Другой МХАТ»
Рождение Второго МХАТа. Михаил Чехов стремится к театру больших художественных обобщений и мечтает о создании новой актерской техники.
Передача 6-я. «Поэзия слабости»
Последний год жизни Чехова в советской России. Актер играет Муромского в «Деле» Сухово-Кобылина, сражается на два фронта — против бывших своих товарищей внутри театра, требующих повернуть МХАТ Второй в сторону «актера-общественника», и против режима. Весной 1928 года Михаил Чехов покидает созданный им театр и советскую Россию.
Передача 7-я. «Русский голос»
Михаил Чехов надеялся, что в Европе он обретет художественную свободу, создаст тот идеальный театр, о котором мечтал в Москве. О приключениях Чехова в Германии, Франции, Литве и Латвии.
Передача 8-я. «Утопия Дартингтон-Холла»
В Дартингтон-холле Михаилу Чехову удается создать первую экспериментальную студию, очень много значившую для театра будущего. Но с началом Второй мировой войны студию эвакуируют в небольшой американский городок Ричфилд.
Передача 9-я. «Моральное резюме»
Заключительная программа посвящена 13 годам жизни Михаила Чехова в Голливуде.
Источник
Предлагаемые обстоятельства
Приближается важное событие: в январе будущего года весь культурный мир будет отмечать 150-летие великого русского писателя Антона Павловича Чехова. В связи с этим на телеканале «Культура» известным историком театра, доктором искусствоведения, ректором Школы-студии МХАТ Анатолием Смелянским подготовлен цикл передач о судьбах Антона и Михаила Чеховых, в которых он видит немало общего.
Российская газета: Как возникла идея цикла о Михаиле Чехове?
Анатолий Смелянский: В какой-то момент я остро ощутил громадную пропасть между масштабом его личности и тем, что сегодня о нем известно даже образованным людям, специалистам — в том числе и мне самому! Да, опубликован его двухтомник, мемуары. Но у нас все еще нет доступа к его зарубежным архивам, нет понимания того, что он сделал для русской сцены. Полвека замалчивания даром не прошли. Мне казалось важным сделать его судьбу достоянием страны.
РГ: Можно ли сформулировать то главное, что двигало вами во время работы?
Смелянский: Я хотел проникнуть в судьбу Чехова, в тайну его актерской техники, сопоставить его судьбу с судьбой Станиславского, судьбу МХАТа с судьбой созданного Чеховым МХАТа-2, который был уничтожен, предан осознанному забвению.
РГ: Как появилось название фильма — «Чувство целого»?
Смелянский: Это выражение самого Михаила Чехова — основа его понимания не только актерской техники, но и профессии, призвания. Чувство целого — это ощущение некой гармонии мира, понимание того, во имя чего ты выходишь на сцену. Если этого чувства нет — вообще нельзя заниматься творчеством. Чувство целого — это еще и чувство стыда, без которого тоже нельзя заниматься театром.
РГ: Что оказалось для вас самым сложным при работе над этим проектом?
Смелянский: Как ни странно, труднее всего оказалось уложиться в формат — в самом буквальном, количественном смысле слова.
По сценарию цикл о Михаиле Чехове состоял из восьми серий. И был эпизод, который я рассчитывал дать бегло — речь идет о пребывании Чехова в Англии. Однако, изучая документы, а затем увидев это место своими глазами, я понял: те события имели огромный смысл — не только для судьбы Чехова, но и для всей европейской культуры предвоенных лет.
Дороти Уитни, американская миллионерша, и ее муж купили старинный замок Дартингтон-холл, отреставрировали его и собрали там представителей духовной и интеллектуальной элиты Европы, затеяв грандиозный социальный эксперимент. Они пытались соединить труд и искусство, внедрить новую систему образования — в то время как мир катился в пропасть, к войне! Михаил Чехов оказался не просто причастен к этому начинанию, а стал одной из его центральных фигур — не случайно именно здесь он ближе всего подошел к воплощению своей мечты об идеальном театре.
Когда я понял, что Дартингтон-холлу нужно посвятить отдельную серию, то оказался перед дилеммой: либо комкать другие эпизоды, либо добиваться увеличения количества серий. Я позвонил Татьяне Пауховой, главному редактору телеканала «Культура», и сказал: «Понимаю, что нарушаю все правила, но не могу ничего сокращать. Это вопрос моей ответственности за существо этой истории». Почувствовав мою одержимость, Татьяна Паухова пошла на беспрецедентный шаг — сотрясение формальных основ во имя смысла. Сказала: «Ладно, делай 9 серий, бог с тобой!». Никогда этого «неформатного» решения не забуду.
РГ: Два великих представителя семьи Чеховых вращались в одной и той же художественной среде. Однако их жизненные и творческие судьбы разительно отличаются. А есть ли, тем не менее, общность между мировоззрением и творческими принципами Антона Чехова и его племянника?
Смелянский: Как шутил Антон Павлович, все они «чехи», и Михаил тоже «чех». Это означает способность видеть мир сквозь смеховую призму, душевную отзывчивость, нервность. Именно такими словами Антон Павлович передает впечатления от маленького Миши, которому было тогда три с половиной года: отмечает интеллигентность, нервность, которая обещает будущий талант. Как в воду глядел. Добавлю: Михаил Чехов всю жизнь обдумывал судьбу автора «Чайки», а в последние годы хотел написать повесть о духовном пути Антона Павловича. Увы, этот замысел не был воплощен.
РГ: Анатолий Миронович, какой ракурс вы избрали для новой программы к юбилею Антона Павловича Чехова?
Смелянский: Думаю, раз в 150 лет мы можем поговорить о том, что составляет тайну творчества Чехова: не о его любовных романах, отношениях с Книппер-Чеховой, а о лаборатории его письма, его поэтике. Помните, у Булгакова в «Театральном романе» есть замечательный образ — волшебная коробочка. Моя задача — рассказать о волшебной коробочке Чехова, его особом мире. Есть его ключевая фраза в момент написания «Чайки», которую мы все знаем, но не понимаем до конца: «Пишу комедию, страшно вру против всех условий сцены. В моей пьесе никакого действия, мало о литературе, пять пудов любви». Против чего «врал» Чехов-драматург, какие каноны разрушил, что создал взамен? Перефразируя Антона Павловича, в своей программе я вру против всех условий телевидения: никакого сюжета, никакой желтизны нет — только волшебная коробочка Чехова: каков чеховский человек, как он говорит и молчит, каковы его соотношения со временем, как играли и играют Чехова в мире.
РГ: Почему вы выбрали столь необычное название — «Живешь в таком климате»?
Смелянский: Это фраза Маши из «Трех сестер». Она имеет продолжение: «Того гляди снег пойдет, а тут еще эти разговоры». Или реплика из «Дяди Вани»: «Важный дождик». Или про Ялту: «Мерзкая погода, одни свиные рыла, ни одного прекрасного женского лица на набережной. И этот климат изнашивает человека». Изнашивает человека! Это Чехов. В драме до него этого не было никогда. Бесконечная многоплановость жизни, с мельчайшими подробностями климата, погоды, запахов, звуков, которые переносятся в текст пьесы, в эту самую волшебную коробочку, и там оживают. Это магия.
РГ: За счет чего же она достигается?
Смелянский: Об этом лучше всего сказал Пастернак: «Он берет слова героев вместе с воздухом, в котором они были произнесены». В «Дяде Ване», к примеру, все главные события происходят во время грозы, и в эту грозу раскрывается душа человека. Чувство России, пространство, температура, климат — все важно. Это и есть чудо Чехова, когда обычные слова создают вместе волшебный узор. «Поймать» это очень трудно — многие вещи я сам начинаю понимать и точно формулировать только по ходу работы.
Источник
Читая Чехова
К.ЛАРИНА: Ну вот, наконец, и мы сегодня говорим о Чехове. Мы не исключение. Юбилейные дни потихонечку уже завершаются, и сегодня в воскресенье 31 января наше «Книжное казино» посвящено Антону Павловичу Чехову. Здесь, в студии «Эхо Москвы», ведущие программы Ксения Ларина и Майя Пешкова – Майя, приветствую тебя!
М.ПЕШКОВА: Добрый день!
К.ЛАРИНА: И в гостях у нас сегодня Анатолий Миронович Смелянский – здравствуйте, Анатолий Миронович!
К.ЛАРИНА: Профессор и ректор Школы-студии МХАТ, историк театра, ведущий телевизионных программ на канале «Культура», одна из которых завершилась вот буквально на этой неделе – в пятницу, по-моему, была последняя серия, да?
К.ЛАРИНА: Цикл программ под названием «Живешь в таком климате», посвященный как раз Чехову. И еще одна новость и событие, с которого хочется начать – поздравить Анатолия Мироновича с присуждением премии «Триумф».
К.ЛАРИНА: Приятное событие, скажите?
К.ЛАРИНА: Одна из немногих премий, как мне кажется, которая, вот, она не ангажированная. Она такая, очень простая по своей структуре, да, понятно, за что, каждый раз. Это очень мне нравится. И кстати, ее второй раз не присуждают, по-моему.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Нет, раз в жизни, да.
К.ЛАРИНА: Один раз в жизни, да.
М.ПЕШКОВА: 18 лет существует «Триумф».
М.ПЕШКОВА: И по-прежнему каждый… каждый лауреат – это имя, очень много сделавшее для нашей культуры. Церемония была потрясающая.
К.ЛАРИНА: Анатолий Миронович, ну давайте к юбилею. Как Вам юбилейные дни-то чеховские? Я вспоминаю, знаете, что – был когда юбилей Пушкина несчастный, все это закончилось апофеозом, было событие около памятнику Пушкину, когда мэр города Юрий Михайлович Лужков и тогдашний премьер-министр Сергей Степашин открыли большую-большую книгу, которую назвали… как это? «Пушкинский альбом». «Давайте будем писать поздравления Пушкину». Это было очень смешно, когда первый… право первой записи «Дорогой Александр Сергеевич, поздравляем вас», да, от Сергея Степашина. (смеется) Ну как вот здесь-то?
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Ну, Вы знаете, что – все-таки чеховский юбилей, по-моему, того размаха, который приобрел пушкинский, слава Богу, не принял. (смеется)
К.ЛАРИНА: Слава Богу, да.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Но Чехов ограничивает нас просто самим тоном своей жизни, что ли – что вот так вот начать чушь нести не очень удобно. Плюс ко всему, Чехов же – ну, как и Пушкин, впрочем – очень трудно его куда-то записать, там, в какой-то лагерь или куда…
К.ЛАРИНА: Ну он не народный писатель все-таки, согласитесь, в отличие от Пушкина.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Нет, не народный.
К.ЛАРИНА: Не народный поэт.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Ну, Пушкина сделали, да, народным поэтом. А… Поэтому… Но все-таки наговорили много. И я сам участвовал в целом ряде разговоров – довольно утомительно. Хотя, вот так я думаю, и пушкинистика, и чеховедение породила в России… вот, чтобы, так сказать, огульно не говорить, все-таки очень многих замечательных людей. Т.е. в равной степени и очень многих плохих людей, но все-таки, вот так, думая о чеховедах, много десятилетий я рядом как-то с ними существовал, и многие из них были людьми, которые не только что-то привнесли в понимание Чехова, но мне кажется, что-то очень многое дали и нашей всей культуре – вот, начиная со Скафтымова, который открывал смысл чеховской драмы. Ну, я не знаю, Берковский, который потрясающе интересно о нем писал, Саша Чудаков, Александр Павлович – «Поэтика Чехова», мне кажется, одна из самых свободных книг, вообще, нашей подцензурной печати. Вообще, через Чехова что-то понимали про страну, про то, как мы живем. Борис Зингерман покойный, изумительные работы, которыми… остаются в памяти на всю жизнь. Да много – Костя… Константин…
К.ЛАРИНА: А вклад иностранцев в чеховедение?
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Ну Вы знаете, сейчас у нас почему-то знают только Дональда Рейфилда, которого…
А.СМЕЛЯНСКИЙ: …кстати, тоже персонально знаком. Остроумный человек…
К.ЛАРИНА: Ну и как Вам это произведение?
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Вы знаете, что? Мне мои друзья чеховеды некоторые говорили: «Да что вы вообще, что вы… что про него говорить? Что такое… Вы все это знали, что он опубликовал». «Это вы, — говорю, — знали, это не значит, что…» Вроде бы, человек собрал всякие гадости или, как в английской традиции есть, что «биография с бородавками», т.е. собрать все бородавки и дать. Но это, Вы знаете, что, это же не бородавки, мне кажется, что Рейфилд сделал ту работу, которую, конечно, наши должны были сделать, и по причинам, вот, либеральной цензуры никогда не делали.
К.ЛАРИНА: Да. Самое главное, она свободна от стереотипов, да?
А.СМЕЛЯНСКИЙ: А либеральная цензура – это тяжелая вещь, да. Либеральная цензура – это значит: «Я-то знаю, но не надо же… нельзя опорочить образ Чехова». Я хочу Вам сказать, и прочитав Рейфилда, и зная много из того, что нет у Рейфилда – Чехова опорочить совершенно невозможно, как и Пушкина. Вы знаете, что бы ни открывалось, и какие бы интимные, или, там, поведенческие вещи ни вскрывались… Слушайте, приятель мой Рома Тименчик, профессор из Иерусалима, как-то сказал: «А что такое жизнь, если не текст?» Так вот, если понимать жизнь как текст, он может делиться на текст, который создает писатель, и на текст его жизни. Текст жизни Чехова, его самостроение и его литературный текст – это для меня совершенно одно и то же. Вплоть до последней его реплики по поводу шампанского, или как у нас не очень любят вспоминать, что там же, вот то, что записала Ольга Леонардовна, это по поводу шампанского, а там есть другая запись – там же был студент этот. Что «Может быть, лед, лед?» — «Так к пустому сердцу лед не прикладывают». Так что как сказать? Это художественный чеховский текст, до последней секунды. Причем текст, в каком-то смысле, надо его воспринимать на фоне… в контексте, что ли, русской культуры. Как Толстой умирал, как Достоевский умирал, как Гоголь умирал, и т.д. И ведь вот Чехов насыщен, поскольку он на излете XIX века, это самый литературно-центристский век наш, его вещи насыщены, его герои насыщены русской литературой. Они все время пытаются друг друга определить: «А ты лишний человек, ты Гамлет» — что Иванов восстает, да? А у него в «Дуэли» в повести, значит, они приходят, чтобы дуэль сделать, произвести, и они не знают, как это сделать, они говорят: «Но это же было описано. Помнишь, у Тургенева?» (смеется) Они вспоминают Тургенева, чтобы понять, как стрелять друг в друга. Ну, и т.д. и т.д. Так вот, я считаю, что скомпрометировать Чехова абсолютно невозможно, поскольку чем больше открывается бородавок, тем более увлекательным становится текст его жизни, и больше понимаешь про его основные вещи, понимаете? Про его отношения с женщинами, которые так усиленно занимались в эти юбилейные дни. Что ж тут такого можно открыть, кроме какой-то невероятной его и высоты, и трезвости, и одинокости абсолютной…
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Нормальности. Там, по-моему, Рейфилд приводит…
К.ЛАРИНА: Он был нормальным человеком.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: …эту фразу, когда он приходит в зоопарк, Чехов смотрит на гепарда, и там где-то написано, что вот это такое животное, которое сексом может заниматься с одной и той же самкой только один раз. Чехов говорит: «Вот это про меня».
А.СМЕЛЯНСКИЙ: (смеются) Но это же гениально. Но есть такие устройства… Это же нельзя обсуждать, хорошо это или плохо. Но так устроен… вот человек так устроен. А если он гениальный человек, он чаще всего устроен как-то странно, да. Поэтому…
К.ЛАРИНА: Давайте… Простите, Анатолий Миронович, просто мы должны все-таки сказать, что мы не просто так сегодня собрались поговорить, а в формате нашей передачи существуя, должны обязательно разыграть книги. Мы это сделаем. Майя, у нас сегодня сплошной Чехов, да?
М.ПЕШКОВА: Да, у нас сегодня Антон Павлович. Книги, которые вышли в издательстве «Эксмо»:это драма «На охоте», толстый том «Остров Сахалин» и «Дама с собачкой» — это произведения Антона Павловича, и сюда же включены некоторые воспоминания современников. А также книги, которые увидели свет в… издательства «Азбука-классика». «Тайный советник» книга, и вторая книга, которую мы вам подарим – это «Пестрые рассказы», и книги, которые, я бы так их назвала, тематические: «Антрепренер под диваном» — это Чехов и театр, сборник рассказов. «Беседы пьяного с трезвым чертом», как вы догадываетесь, это сборник Чехова о пьянстве, его рассказы. И о любви, конечно, тут и любовные истории. И это все произведения Антона Павловича.
К.ЛАРИНА: Я напомню нашим слушателям, во-первых, номер смс – +7985-970-45-45, а во-вторых, телефон прямого эфира – 363-36-59. Мы сегодня не будем устраивать вам чеховскую викторину, а совсем даже наоборот. Вы будете задавать вопросы нашему гостю Анатолию Смелянскому, все, что касается Чехова как прозаика, писателя, как украинского поэта, как драматурга, безусловно, и как личности – все, что касается Чехова, любые вопросы мы принимаем, и Анатолий Миронович с удовольствием на них ответит. Призов у нас много, поэтому я думаю, что мы будем принимать ваши вопросы и на смс, и по телефону прямого эфира. Я бы задала такой вопрос, все-таки в театральной теме оставаясь: пять пьес всего было полнометражных написано Антон Павловичем Чеховым. Можно сформулировать вот так, коротко, в чем все-таки секрет его вот такой вот вечности, именно этих пьес? Почему его так любят ставить, и не только у нас, но и во всем мире? Чем он привлекает? (пауза) А сложно ответить.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Мне… Да, сложно, конечно, сложно, да. Но мне кажется, что особенно в ХХ веке, да и сейчас, наверное, никуда это не уйдет – вот этой внутренней свободой, непредвзятостью по отношению к человеку. Ничего более сложного у нас не написано в драме. Потому что в общем-то, Вы знаете, у него есть письмо одно, обращенное к приятелю своему, прозаику, который стал заниматься пьесами. И Чехов, который редко это позволял себе, это году в 99-м уже он написал и «Чайку», и «Дядю Ваню», он ему… прочитав пьесу его, которая называлась «Свободные художники», вдруг пишет ему письмо, потрясающее письмо, где он ему говорит: «Евгений Николаевич, ну что за пьеса у вас? У вас художники эти, герои, говорят, как бухгалтеры. У вас нет поэтического языка, потому что… а в нем весь смысл. Вы пишете пьесу как драматург – т.е. это плохо. Явление первое, входит, уходит, там, то-то, то-то… А у вас только первый план, а нет второго плана, с Васнецовым, с Толстым, с Россией». Т.е. он высказывает себя. Вот мне кажется… ведь у нас в русской драматургии очень редко бывает кроме первого плана второй план, а… да еще вот так, как у Чехова, когда непредсказуемость человеческого поведения. Создана такая структура сложная, где Чехов сам иногда оказывается, ну, как бы, в роли интерпретатора, ну а там уж понимайте, как знаете. Мне очень нравится, когда он сидит на репетиции рядом со Станиславским на «Трех сестрах» и говорит ему: «А может быть, Ирина – дочь Чебутыкина?»
К.ЛАРИНА: Ой, это тоже мысль, да, конечно, была.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Это потрясает, и знаете, почему? Потому что «может быть» — ну ты-то знаешь, ты же автор!
К.ЛАРИНА: А многие, кстати, так и играли.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Т.е. он создает такую сложную структуру, в которой… как и Шекспир, понимаете? В которой можно бесконечно-бесконечно что-то открывать. Другой вопрос, что любое открытие связано с нарушением, конечно, вот этого чеховского канона, часто скандально, а по-своему иногда замечательно – ну, скажем, спектакль театра Вахтангова, который… Вот честно говоря, когда я смотрел, сначала напрягался, потому что это было поперек того, что я мог ожидать вообще когда-либо от «Дяди Вани». А в какой-то момент я вдруг понял, что замечательная история. Ну, я не говорю уж о том, что то, что делает Маковецкий, я думаю, что десятилетие русская сцена не предъявляла живого человека – вот так, в Станиславского понимании – вот, вот, вот, вот… Это что? Это не сыгранное, а рожденное, представленное и открытое. Вот эта вот дезориентация в пространстве – то туда пошел, то… вот это чеховское ощущение человека как глупого замечательного существа, который не может сказать раньше, что будет в следующую секунду. И исполнен страдания, исполнен, ну, я не знаю, чего. Замечательная вещь. Да как сказать… вот сейчас вот Юра Бутусов у нас ставил в Художественном театре…
А.СМЕЛЯНСКИЙ: «Иванова». Ведь когда человек приходит ставить Чехова, он же приходит… что, собственно говоря, не с изготовленным Чеховым, он же приходит с чем-то своим, да? Как это трудно пробивается! Я помню…
К.ЛАРИНА: А у Вас есть, вот, простите, то четкое… все-таки критерий, что Чехов, что не Чехов? Вот любимое расхожее, когда, вот, смотрят спектакль и говорят: «Это к Чехову не имеет никакого отношения» — говорит, там, какой-нибудь критик. Да?
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Ну да, это обычная вещь. Но в конце концов, так вот, по опыту жизни, сужу так: может, и не имеет никакого отношения, но если это художественно-убедительно, это становится частью Чехова. Как это всегда было, Вы понимаете? Когда в Художественном театре поначалу разрушили канон вообще старого русского театра, где артисты между собой не общались, общались с публикой. И Станиславский, собственно, это и произвел – вся реформа раннего Художественного театра – общаться с партнером бесконечно. Вот впиваться в него.
К.ЛАРИНА: «Четвертая стена».
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Слушайте, а спектакль Немировича-Данченко знаменитый, 40-го года, великий спектакль, полностью против этого. И он это формулирует. Что Станиславский, тогда это он совершал революцию против рутины современной… а вообще-то, они не общаются у Чехова, как бы общаются. И он создает спектакль, который становится новым каноном. И кстати говоря, потом много лет… и Эфрос говорит: «Надо освободиться. Теперь все они общаются, как бы общаются». И я сейчас читаю репетиции «Чайки», которые Эфрос делал в Ленкоме в 66-м году – это, вот, только страна пробудилась, вы знаете, после сталинского… И он им объясняет, причем гениально… вот что вкладывает режиссер? Говорит: «Аркадина, это что-то декадентское?» Он говорит: «Спросите так, Фадееву», и он говорит Фадеевой, которая маму Ленина… Он говорит: «Спросите так: это что-то антисоветская?»…
К.ЛАРИНА: Интонация понятна. (смеется)
А.СМЕЛЯНСКИЙ: (смеется) Да, интонация. «Это что-то декадентское?» «Это что-то антисоветское?» Или там же он говорит: «Вот у Станиславского они общались, у Немировича они общались – на самом деле, они бесконечно истерически общаются и ничего не слышат. Вот природа, мол». И т.д., и т.д. Кстати, у Бутусова – я не знаю, как оценить общий ход, может быть, не до конца убедительно…
К.ЛАРИНА: Задом наперед?
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Задом наперед. Но дело не в задом наперед. Когда начинаешь с самоубийства… дальше же он придумал, в последние дни, что он себя там семь раз убивает в течение спектакля…
К.ЛАРИНА: Очень смешно. (смеется)
А.СМЕЛЯНСКИЙ: И я был на спектакле: публика… первый раз: он убил себя – ну хорошо, с конца начали…
К.ЛАРИНА: Потом стали смеяться, да.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: А стали смеяться, почему? Потому что это история русского интеллигента, который 150 лет жаловаться, убивает себя, встает и снова продолжает жаловаться.
К.ЛАРИНА: Ну, рядом со мной сидел актер один известный, который смотрел вот на это, тоже смеялся вместе со всеми, потом говорит: «Это абсолютно, — говорит, — про меня. Только повод бы застрелиться». (смеется)
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Т.е. если бы Юра Бутусов сделал это совершенно художественно…
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Может быть, у него не хватило времени – я не знаю, чего. Это могло бы быть просто… Все равно это войдет в содержание пьесы «Иванов», что он себя убивает десять раз.
К.ЛАРИНА: У нас сейчас новости, потом продолжим наш разговор. Я уже, конечно же, буду обязательно обращаться к вопросам наших слушателей. Напомню, что в гостях у нас сегодня Анатолий Смелянский.
К.ЛАРИНА: Ну что, возвращаемся к Чехову. Напомню, что в гостях у нас сегодня Анатолий Миронович Смелянский. Мы сегодня разыгрываем книги Антона Павловича Чехова. И еще один вопрос, перед тем, как я дам слово слушателям. Анатолий Миронович, все-таки советский подход к Чехову, к творчеству Чехова, он чем отличался от того, что принято, вообще, в сегодняшней жизни?
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Ну, мне кажется…
К.ЛАРИНА: Ведь в школах-то изучали тоже как… через призму партийной литературы. Да?
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Даже не партийной, но они же сделали, ну, как бы, сознательно, мне кажется, когда… Ведь в 20-е годы Чехова, кстати, советская власть не разрешала – это очень важно. Что после… в первое послереволюционное десятилетие МХАТу не давали играть Чехова. Ведь когда Станиславский из Америки спрашивает у Немировича: «А Чехова разрешат большевики?», ответ потрясающий. Значит так: «Иванова нельзя играть – пресса до недоуменности несозвучна бодрящей эпохе». «Три сестры» нельзя играть по определению. Белая армия! Да их всех расстреляли, этих офицеров. А можно играть только «Вишневый сад», но только в плоскости «здравствуй, новая жизнь».
К.ЛАРИНА: Да, да, да.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Так вот это и сделано было. Значит, Чехов – это все «здравствуй, новая жизнь», герои делятся… персонажи делятся на героев и паразитов. Кто паразит? Раневская, Гаев, и т.д., и т.д. Т.е. произвели операцию, как сказать… кастрации Чехова ужасную. И были литературоведы, которые это обслуживали. Это была… Ну, не только по отношению к Чехову.
К.ЛАРИНА: Ко всей русской классике.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: По отношению ко всем разрешенным наконец-то классикам. А в 30-е годы они пришли и стали действительно великие вещи делать – издавать собрания сочинений, там, 90-томный Толстой начинается и т.д. Но по сути, конечно, одновременно и призвали армию истолкователей, интерпретаторов, учителей, которые до бесчувствия уничтожали, конечно, смысл всего этого.
К.ЛАРИНА: Ну там было, мне кажется, с Чеховым было сложнее всего. Потому что, там, из Тургенева вытащили тему народности, да? Естественно, Толстого и Достоевского. А у Чехова очень трудно…
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Ну, если сделать героя Петю Трофимова, а этих паразитами, то…
К.ЛАРИНА: …подверстать к советской власти, да.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Вы понимаете, ну, уничтожается всякий смысл Чехова. Т.е. кстати говоря, интересно, что ведь театр в этом смысле оказывался мощнейшим, единственным сопротивляющимся…
К.ЛАРИНА: Именно тогда возникает, да.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Когда Эфрос поставил «Три сестры» в 67-м, запретили спектакль. Почему? Почувствовали интепретационную угрозу вот эту вот. Это что? Это вдруг двинули три сестры в жизнь, и оказалось, что мы, как бы, все в ссылке? Да, вот это ощущение трех сестер на Бронной. И это истерическое общение вот это вот. И впервые, кстати говоря… мы же всегда трактовали это очень поэтически, т.е. стерильно, бесполо и т.д. «Чайка» — это какая-то поэтическая… знаете, мне Ефремов… Мы были с ним в Ялте, года через три после уже «Чайки», он поставил ее в 80-м году, в феврале – а надо быть, вот, в Ялте в феврале, чтобы почувствовать вот эту тоску Чехова чудовищную – вот это «моя теплая Сибирь» и т.д. И Олег Николаевич… мы сидели… знаете, там эти, югославы построили в советское время эту гостиницу, она нависает над морем. И тишина, да, никого нет, ни курортников, никого. И только звук этой чайки. А голодно, жрать нечего. И крик этой чайки совершенно не поэтический.
К.ЛАРИНА: Хриплый такой.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Ужасный. И он мне говорит: «Слышишь?» — «Да». Он говорит: «Вот это вся «Чайка»». Т.е. он же потом озвучил весь спектакль только – оркестровал, кстати, Вася Немирович-Данченко – вот этот крик чайки. Это не поэтическое… т.е. поэтическое, в глубоком смысле слова, но это не поэтическое вот это вот наше сиротное «Чайка» — это про… «Чайка» — это про нервное чудовищное сталкивание интеллигентных людей, людей интеллигентных. Там кто, там же богемная публика: артистка, которая помнит, как ее принимали в Харькове, драматург-неудачник, там поклонники. Там писатель успешный, Тригорин. Через это вдруг Россия, Вы понимаете? Вот это, когда Чехов напишет им потом: «Ставьте современные пьесы, трактующие жизнь современной интеллигенции, — это он говорит. – Только вы это умеете делать, и чего другие театры за их полубездарностью и неталанливостью не могут сделать. Ставьте». Это не про поэзию, это про то, что… про нерв современной жизни. Открывали это. Когда он заставил их общаться бесконечно – этого же не было. Поэтому мне кажется, вот эта советская трактовка… Мы, во многом, еще и не вышли из нее.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Знаете, у меня студентка одна – несколько лет назад я читал курс «Введение в художественный театр» — ну, какой-то экзамен, полузачет, они сидят так, кругом. Ну, я спрашиваю, в основном, подстегиваю к тому, чтобы прочитали тексты, вообще говоря – не интепретации, вот текст прочитайте. Потому что я надеюсь на то, что текст сам по себе произведет впечатление на человека. Спрашиваю одну девочку: «Раневская куда в конце «Вишневого сада» уезжает?» Она так задумалась – понял, что не читала сразу – а рядом сидит другой, сын Макаревича, он у нас учился одно время. И он такой, шутник, и он ей подсказал, и она так, глядя на меня, говорит: «В Кунцево».
А.СМЕЛЯНСКИЙ: И я подумал: «Чехов давно уже в Кунцево вместе со всеми другими». Это… это ответ вот на то, что мы им впариваем. Вот, Чехов… Раневская уезжает в Кунцево.
К.ЛАРИНА: И еще один вопрос – все, потом слушателям даю слово. В Интернете у кого-то я прочла – может быть, публикация была какая-то на эту тему, не помню. Ну, неважно. Вопрос так стоял: принял бы Чехов революцию? На Ваш взгляд. Я понимаю, что нет сослагательных наклонений, но давайте попробуем пофантазировать.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Я даже не могу себе представить более несчастного человека. Как он мог… он, конечно, в воображении своем проигрывал варианты того, что может произойти в России, но ничего более античеховского… т.е. вообще человека, настроенного на эволюцию, настроенного на то, что в России, может быть, когда-нибудь что-нибудь и будет через 200 лет, по мере… по мере… Знаете, у Некрасова, да, строчка: «Свет и свободу прежде всего». Чехов – это же свет, и через свет свободу – это меньше всего… Т.е. уж у кого меньше всего веры в возможность насильственного осчастливливания – это, конечно, у Чехова. Вот это вот последнее его празднование, его день рождения, день ангела совпадали, 17, да, января по старому стилю – когда они его вызвонили, заставили прийти, устроили это чествование. И там гениально Владимир Иванович Немирович-Данченко придумал ему, ну как сказать? Там все говорили, говорили, он ежился, «шкаф, многоуважаемый шкаф», не знал, себя как вести, и в конце вдруг Немирович ему сказал… у нас, кстати, вечер вот этот Олег заканчивает Табаков вот этой… этим текстом, который… Он ему говорит: «Вот Антон, ты… Антон Павлович, ты должен понять, вот любовь к тебе — очень интересное выражение – грамотной России» Не России, а… вот, у нас любят говорить «Россия!» — не России, грамотной России, которая знает, что ты есть на земле. И дальше: «В народе говорят, что Антонов день – это прибавление света. Ты прибавил света в понимание…» Вот это вот, да? А это понимание очень печально у Чехова. Ничего более печального нет – ни на фоне Толстого, Достоевского. Поскольку у Чехова нет проповеди совершенно, у него нет указки.
К.ЛАРИНА: Морализаторства нет никакого, да.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: У него даже желания сказать, что будет, как надо идти, как надо жить. И отсюда, конечно, идея русской революции у него… как сказать? Одна из самых… одно из самых страшных вариантов, конечно, будущего, потому что единственная вера и надежда… Он же своей жизнью доказал, внук крепостного и сын лавочника, что можно закончить гимназию, можно закончить Московский университет. И дальше сделать что-то такое в России, чтобы другой сын лавочника закончил Московский… И так постепенно, лет через 200-300… ну так устроена русская жизнь. И то еще не ясно – через 200-300, ну Тузенбах тут же отвечает: «Да и через тысячу лет все будет тоже. Изменятся покрои пиджаков, будут летать на воздушных… А жизнь будет все такая же, и человек будет также страшиться и бояться смерти» — это, конечно, Чехов раздваивается здесь. И скорее ко второму, конечно, склоняется, что если что-то и будет меняться, то очень и очень медленно. Почему? Вот физиология русской жизни, которую он, конечно, описал великолепно.
К.ЛАРИНА: Берите наушники. Мы слушаем вас, дорогие друзья. Алло, здравствуйте! Алло!
СЛУШАТЕЛЬНИЦА МАРИЯ: Алло, здравствуйте!
СЛУШАТЕЛЬНИЦА МАРИЯ: А вот скажите, пожалуйста, вот на Ваш взгляд, какая самая интересная последняя, вот, постановка Чехова? Вот что больше всего понравилось из всего вот этого разнообразия театрального в пространстве?
К.ЛАРИНА: Спасибо, как Вас зовут?
СЛУШАТЕЛЬНИЦА МАРИЯ: Меня зовут Мария.
К.ЛАРИНА: Мария, все, записали Вас. Пожалуйста, Анатолий Миронович.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Ну, один спектакль из последних я назвал – это спектакль…
К.ЛАРИНА: «Дядя Ваня».
А.СМЕЛЯНСКИЙ: … «Дядя Ваня» в Вахтанговском театре. Мне кажется, за последние годы замечательный спектакль был «Черный монах» и Гинкаса с Сергеем Бархиным, художником. Женовач, который обращается к Чехову три года. Из последних работ, мне кажется, существенно. Тут я запнулся.
К.ЛАРИНА: Ну и хорошо.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Да. (смеются)
К.ЛАРИНА: Алло, здравствуйте! Алло!
СЛУШАТЕЛЬНИЦА НАТАЛЬЯ: Алло?
К.ЛАРИНА: Да. Пожалуйста!
СЛУШАТЕЛЬНИЦА НАТАЛЬЯ: Алло, здравствуйте!
СЛУШАТЕЛЬНИЦА НАТАЛЬЯ: Алло, у меня вопрос к Анатолию Мироновичу.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА НАТАЛЬЯ: Анатолий Миронович, у меня сложилось впечатление, что женские образы в творчестве Чехова как-то ярче, острей, чем мужские. Моя такая точка зрения справедлива? Большое Вам спасибо!
К.ЛАРИНА: Как зовут Вас?
СЛУШАТЕЛЬНИЦА НАТАЛЬЯ: Меня зовут Наталья.
К.ЛАРИНА: Наталья, спасибо, записали. Итак?
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Ну, мне сразу же в голову приходит разбор Чехова, который устроил когда-то Набоков, который… по писательски, конечно. Он считал, что да, зрелые женщины у Чехова замечательны поняты, а вот девушки… Он считал, что все на одно лицо, и он их… И действительно, у Чехова есть ощущение, что он не знает, как их писать.
К.ЛАРИНА: Вот эти вот Аня, Шурочка…
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Вот Аня, Нина, Шурочка и т.д. и т.д. Поэтому какая-то проблема у него с описанием девочек, девушек…
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Инженю. (смеется) Что-то у него тут не складывалось. Вот, а зрелых женщин описывает превосходно. Почему-то с подростковых лет – вот эта незаконченная пьеса, «Платонов», да? Поразительно, откуда у него это знание про этих вдовушек, про любовные романы? Он, правда, сам считал, что он очень рано начал эту самую, науку страсти нежной познавать – по-моему, с 13 лет. Но чтобы в 18-19 лет – так, считается, «Безотцовщина» Платонов написана – чтобы такое знание женской души выказать…
К.ЛАРИНА: Кстати, актрисы безошибочно это чувствуют, поэтому все мечтают играть Раневскую, Аркадину, в крайнем случае, Машу – я имею в виду, Машу в «Чайке», да? Но не очень мечтают про Нину Заречную, про Шуру, вот, в «Иванове»…
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Кстати, кстати…
К.ЛАРИНА: …про Аню из «Вишневого сада».
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Кстати говоря, есть одно смешное письмо Чехова. Значит, когда Ольга Леонардовна ему рассказывает, что, вот, она играла вчера, там, не помню, какую пьесу, положительную героиню, и с таким удовольствием играла, Чехов ей отвечает: «Дуся, а что тебе так нравится играть положительных героинь? Вообще, положительных героинь обычно любят играть только бездарные артистки». (смеется)
К.ЛАРИНА: Прекрасно! Вот он чувствовал, конечно, театр. Алло, здравствуйте! Алло! Алло!
СЛУШАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ: Алло, здравствуйте!
СЛУШАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ: Александр Викторович, Москва.
К.ЛАРИНА: Да, Александр Викторович, пожалуйста.
СЛУШАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ: Анатолий Миронович, скажите, Вы согласны с разбором «Вишневого сада», который сделал Александр Минкин? Ну, в частности, с тем, что Лопатин – это альтер-эго Чехова.
К.ЛАРИНА: Спасибо за вопрос, записали Вас.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Я помню, да, эти статьи Саши Минкина в «Московском комсомольце»…
К.ЛАРИНА: Большой труд, да.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Большой труд. Но мне кажется – я ему говорил про это – он сделал одно допущение, которое реальностью не подтверждается. Допущение насчет того, что дом выставлен на аукцион, и как Вы помните, «Дериганов столько-то, а я это, я это», и в конце купил, там, за 90… Так он же… они же заработали денег кучу, поэтому они не нищими уходят, мол. А Вы знаете, что когда дом за долги продают, то деньги идут банку, а не тем, кто задолжал. Я это проверил, так сказать, по всем западным источникам, поэтому предположение, что они уходят с большими деньгами, мне кажется, у Саши ошибочно. А так, там очень много, по-моему, интересного сказано в его разборе.
К.ЛАРИНА: Алло, здравствуйте! Алло!
СЛУШАТЕЛЬ БОРИС: Здравствуйте!
К.ЛАРИНА: Да, пожалуйста!
СЛУШАТЕЛЬ БОРИС: Меня зовут Борис.
К.ЛАРИНА: Да, Борис.
СЛУШАТЕЛЬ БОРИС: А скажите, Анатолий Миронович, Вы кроме Чехова кого любите читать?
К.ЛАРИНА: Спасибо Вам за вопрос, Борис! Такое ощущение…
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Кого я люблю читать кроме Чехова?
К.ЛАРИНА: Т.е. Вы думаете, что кроме Чехова Смелянский ничего в своей жизни не читает! (смеются)
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Я, вообще, читаю хаотически последнее время. И например, сейчас вот читаю Михаила Леоновича Гаспарова, замечательного нашего античника, переводчика, философа культуры. У него есть такая книжка, она называется «Записки и выписки». Изумительная. Очень советую. Как сказать? Неразбавленная сила человеческой мысли, ни секунды… ни одной пустой фразы, ни одной пустой выписки, ни одного пустого замечания. Знаете, ни… вот, сгущенный смысл. Поразительно, поразительно просто. Это из того, что сейчас читаю.
К.ЛАРИНА: Алло, здравствуйте! Алло! Говорите, пожалуйста!
СЛУШАТЕЛЬНИЦА СВЕТЛАНА: Добрый день!
К.ЛАРИНА: Здравствуйте, пожалуйста.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА СВЕТЛАНА: Меня зовут Светлана.
К.ЛАРИНА: Да, Светлана.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА СВЕТЛАНА: Ну, я во-первых, хочу спросить, слышали ли Вы, что Янукович…
К.ЛАРИНА: Слышали, слышали.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА СВЕТЛАНА: …сказал недавно – вот. Ну а вопрос у меня такой: правда ли, что Чехов считал очень неудачной свою пьесу «Вишневый сад» и не любил ее?
К.ЛАРИНА: Как Вас зовут, простите?
СЛУШАТЕЛЬНИЦА СВЕТЛАНА: Светлана.
К.ЛАРИНА: Светлана, спасибо!
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Про Януковича я хочу сказать, что мне кажется, зря на него все набросились…
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Потому что он сказал, поэт – ну в таком, украинско нежном смысле – что это даже выше, чем писатель.
К.ЛАРИНА: Ну даже если он ошибся…
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Вы знаете, а Шекспира ведь тоже называют бардом, Вы понимаете? (смеются) Он ведь мог сказать, Чехов – бард украинский и русский. Хотя хохлацкая кровь – Чехов бесконечно говорил. «В нас…», у него бабушка, «хохлацкая кровь» и т.д., и т.д. Ну это смешно – что, делить это, да? Поэтому я думаю, что это сказано в плане огромной любви к Чехову, что он поэт. Но что касается «Вишневого сада» — нет, ну нигде у Чехова не сказано, что он любил эту пьесу. Там был раздрай и взаимонепонимание между Художественным театром и Чеховым в интерпретации этой пьесы, которую Чехов полагал, считал – по неизвестным еще причинам, и никто еще не доказал, что это так – что написал он комедию, местами фарс – пока никто это за сто лет так не поставил. А Константин Сергеевич, считая, что он не гений, как Чехов, а простой человек, сказал: «Это тяжелая драма русской жизни». Я думаю, что постепенно спектакли Художественного театра… Почти все ведь чеховские пьесы поначалу, кроме «Чайки», успеха не имели. А с течением времени «Вишневый сад» проявил свой смысл, что поразительно, конечно. И с течением времени стало понятно, что написана метафизическая пьеса, и гора… и даже Чехов, может быть, не понимал, что он туда вложил, а каким-то только чудодейственным художественным способом что-то создал, такой кристаллик, который вбирает и вбирает русскую жизнь до сегодняшнего дня. Но сейчас бы сказали – да, проблема «real state», она бы уже из Парижа должна была дать телеграмму: «Продавайте немедленно, поскольку самое время». Я помню, в 70-е годы хотели поставить «Вишневый сад», одна замечательная артистка хотела играть – но это уже психология советского общества, Бабанов отреагировал: «Нет, нет, ей не надо играть, она продаст вишневый сад в первом акте». Т.е. возникают разные вот эти истории, связанные с «Вишневым садом». Но в самом Художественном театре, по признанию Станиславского, понимать смысл «Вишневого сада» стали только с течением времени, и пьеса стала, как сказать, домашним цитатником – в каких-то труднейших ситуациях внутри страны и Художественного театра… ну, скажем, в 20-м году, когда группа важнейших, первейших артистов Художественного театра покидает советскую Россию, думали, что навсегда, оказалось, на несколько лет. Качалов, там, Книппер-Чехова. Она же записочку пишет Станиславскому уже, там, из Батума, покидая совдепию… надо же как-то объяснить, что они же убивают Художественный театр, лучшие артисты покидают Художественный театр – Вы представьте себе. А она вместо объяснения длинного цитату из «Вишневого сада», который она играла с ним столько лет: «Кончилась жизнь в нашем доме. Все».
К.ЛАРИНА: Про театр здесь два взаимоисключающих вопрос есть на смс. Один вопрос: «Скажите, пожалуйста, почему Чехова называют реформатором театра?» — Светлана спрашивает. А другой вопрос, который я тоже здесь отметила на смс, наоборот: «Согласны ли Вы с Михаилом Веллером, что Чехов убил театр?» Я уж не знаю, что он имел в виду.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Я не знаю, да, тоже я не знаю, в каком контексте Веллер это сказал. В каком-то смысле убил театр – ну, в таком смысле, в каком можно сказать, что и Станиславский убил театр в театре, т.е. ненавидел театр. Бывают эпохи, когда очень важно убить театр. Убить театр как фальшивое, нечеловеческое, не в рост человеку, экзальтированное и т.д. А бывают эпохи, когда нужно, наоборот, спасти театр, освободить его, и т.д., и т.д. Я не знаю, в каком смысле… Что касается Чехова-реформатора, ну, это совершенно очевидно, это цель была его, хотя, повторяю, не бравировал, не афишировал. «Пишу комедию, не без удовольствия. Вру против всех условий сцены». Ну конечно, в каком смысле врет и какие новые условия предложил – вот это действительно интересно, и это сто лет мы обсуждаем, и в мире обсуждают, и доказывают. Вот, кстати, позавчера я был на такой международной театральной конференции, которую Чеховский фестиваль проводил в Румянцевском, в Пашковском доме, в этом новом пространстве – я там не был после ремонта. И там немецкий режиссер очень хороший, Кастров, сказал: «Я ощущаю язык Чехова, это же не язык драматургии обычный, там нет… в сущности, это лирические миниатюры, это музыка, это поэзия». И я, выступая там, сказал, кстати, касаясь «Эхо Москвы». Я говорю: «Вы знаете, что? Мы только сейчас, вот в этом словоговорении мировом – оно разное, оно меняется – приближаемся к тому, как устроена чеховская пьеса». Вот я у вас еще полгода назад, открывая сайт – ежедневно смотрю какие-то вещи – я прежде всего обращался… и так сайт был построен – «горячие интервью». Вот я читаю интервью, вот что Проханов сказал, вот что Радзиховский сказал. А сейчас, когда открываешь ваш сайт – блоги, блоги, блоги, блоги, блоги… вдруг изменился словесный состав культуры. А что такое блоги? Вот это чеховское. Все кричат в мир, куда-то в космос что-то выкрикивают…
К.ЛАРИНА: Да, да, да. (смеются)
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Они рядом все поставлены. И вот это чеховская драма. Интенсивно общаются, не слыша друг друга и получая в ответ комменты от всех идиотов мира…
К.ЛАРИНА: Да, да. (смеется)
А.СМЕЛЯНСКИЙ: …матерным языком. Это же новая словесная ситуация! Вот это Чеховская драма. Только без комментов.
К.ЛАРИНА: Вопрос от Лены: «С кем из чеховских героев Ваш гость ассоциирует себя?» Кто Вам ближе? На кого Вы похожи, Анатолий Миронович? Сейчас мы все про Вас узнаем.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Вы знаете, нет, ассоциируешь, конечно, себя… вообще, у Чехова всегда ассоциируешь себя с самым несчастным абсолютно, хотя, может быть, внешне жизнь, как говорится, удалась – но это смешно. Когда дядя Ваня кричит: «Я мог бы быть Шопенгауэром, Достоевским!»
К.ЛАРИНА: Да, да, да.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Боже мой, как это потрясающе сказано! Сколько невыполненного, сколько несделанного, сколько глупостей сказано. И т.д., и т.д. Да… Да в общем-то, почти с каждым – и с Андреем, и с дядей Ваней, и с кем хотите. Меньше всего с… хотя написал кто-то недавно… Я сидел на спектакле у Кончаловского, и сказано было так: «Вот в зале много было випов – вот сидит, значит, Познер, Смелянский, Радзинский. Они бы все могли сыграть гораздо лучше Серебрякова» (смеются) И я подумал: «А Серебряков… Я же тоже занимался всю жизнь литературоведением, театроведением – часть Серебрякова, конечно, в нас во всех есть». И кстати говоря, когда в спектакле Додин или Табаков играет, ты понимаешь объективно, вообще, историю Серебрякова – а в чем он, собственно, виноват? Так что и Серебряковым, конечно, себя ощущаю, конечно. А как же?
К.ЛАРИНА: Майя, а ты с кем?
М.ПЕШКОВА: С Гуровым.
К.ЛАРИНА: Ух ты, какая! Непростая девушка! А я все чаще цитирую монолог Ирины из последнего акта, «я забыла…» или это не последний акт? «Я забыла, как по-итальянски «окно»…»
А.СМЕЛЯНСКИЙ: «Я забыла, как по-итальянски «окно»…»
К.ЛАРИНА: Да. Это страшно, все, что происходит на наших глазах. «Кого из зарубежных писателей Вы считаете последователями Чехова, и кто наиболее близок ему по стилю?»
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Мне кажется, вот, кстати, ХХ век очень чеховский. Скажем, Теннесси Уильямс, который дальше двинулся, чем Чехов, в сторону запретных зон человеческой жизни, тайн…
К.ЛАРИНА: Так его не зря называют американским Чеховым.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Абсолютно. Кстати говоря, известно, что когда впервые поехал или собирался поехать в Советский Союз, спрашивали: «А вы куда, в Москву, в Ленинград, в Петербург?» «Нет, нет, нет, только в Крым, в домик Чехова». И прямая линия – хотя трудно, естественно, Чехов не мог себе этого представить – скажем, для меня Бекетт и «В ожидании Годо» — это абсолютное развитие «Трех сестер». Кстати говоря, вот то, что у Чехова вычеркнуто иногда, то, что он сокращал по просьбе театра – ну, например, в «Вишневом саде» Станиславский попросил, не зная, как делать второй акт, в котором, собственно, ничего не происходит: «Чего мне делать с этим ничегонеделанием?», да? И там же финал был у Чехова другой: там Фирс что-то бормотал про то, как он в тюрьме сидел, там чего-то Шарлотта в ответ свое куковала. И вот разговор двух – полуглухого старика и цирковой такой, значит, этой самой, гувернантки… И он попросил Станиславский это… «Может быть, это уберете?» И он так, побледнев: «Ну ладно», убрал это. Додин в спектакле это восстановил: «Это абсолютный Бекетт», он завершает второй акт вот этим бормотанием двух людей – это просто «В ожидании Годо». Очень, мне кажется, вообще, важнейшие вещи драматургические в ХХ веке так или иначе с Чеховым соотносятся, как что-то до Чехова соотносится с Шекспиром. Как бы созданы, вот, две равноправные, мне кажется, драматургические системы, по-своему противоположные, конечно. Поэтому очень повлиял на театр ХХ века.
К.ЛАРИНА: Очень много вопросов, связанных с политическими убеждениями Антона Паловича Чехова. Как бы Вы его определили, в какой лагерь записали? Либерал, демократ?
А.СМЕЛЯНСКИЙ: Он сам неоднократно на эту тему высказывался. Лучше всего вот в этом знаменитом письме: «Я не либерал, не консерватор, не монах, не индиферентист…»
К.ЛАРИНА: Я свободный человек.
А.СМЕЛЯНСКИЙ: «Мечтал бы быть только свободным художником, если б мне Бог дал эти силы». А я хочу сказать, что Антон Павлович поскромничал – вот он ему как раз и дал эти силы, и нет в России, по крайней мере, во второй половине XIX века, вообще, после Пушкина, более свободного, внутренне свободного человека – не просто свободного, там, политически и т.д. – как раз там есть многие вещи, которые нас шокируют до сих пор. А чего он дружит с консерватором, с Вориным, почему именно ему адресует свои самые замечательные письма? Свобода не в смысле свобода болтать, а в смысле конвертация этой внутренней свободы в художественную свободу, вот в непредвзятость той жизни, которую он сумел воссоздать… Вы знаете, есть у него одна замечательная вещь, когда он опубликовал «Степь» — собственно, с этого начинается Чехов – и ему Григорович – ну, так бывало в русской литературе, сейчас, наверное, уже нет этого – послал ему письмо, вот, приветствующее: «Вы серьезный писатель». Он же писал, знаете, «Штучки», подписывался Чехонте. И тут вдруг, вот, выходит «Степь». И он ему отвечает благодарственным письмом, и до конца жизни внутренне был благодарен за эту поддержку. Вот он напишет одну важную фразу, мне кажется, художественно важную: «Сочиняя «Степь», я понял – то, что, видимо, это и делает серьезного писателя – еще не тесно в России художнику». После Толстого и Достоевского, я хочу Вам сказать, тесно, кажется, все сказано – ну чего ты приходишь? Поэтому он романа не написал, он пишет короткую вещь. А про Достоевского пишет: «Купил, прочитал – хорошо, но длинно и нескромно».
А.СМЕЛЯНСКИЙ: (смеется) Т.е. в этом смысле, политических позиций, я бы так сказал, вспоминая эту некрасовскую формулу, «свет и свобода прежде всего». Чехов – это свет, а свобода как последствие света, как последствие просветления мозгов, когда ты понимаешь, что вот так вот жить невозможно, как живете, да? В этом смысле не консерватор, не либерал, не монах, ни индиферентист. И более того, иногда поражаешься остроте его, вот, неучастия в хоровой публичной политической жизни. Когда ему предложили однажды поучаствовать в суде чести – кстати говоря, над Сувориным, после уже, там, Дрейфуса и т.д. – ответ замечательный у Чехова: «Нет, нет, я не могу. Каста журналистов – это не каста офицеров, и суд чести среди журналистов очень странный… В азиатской стране, презирающей… не имеющей никакой свободы, презирающей журналистов, заниматься судом чести? Вы напоминаете мартышек, посаженных в клетку и отгрызающих друг у друга хвосты». Мы же этим продолжаем заниматься с огромным удовольствием! Чехов нет, не хотел. В этом смысле внутренняя свобода.
К.ЛАРИНА: Спасибо большое Анатолию Мироновичу Смелянскому, который много чего прояснил сегодня по поводу Чехова. Огромное спасибо за такие, незамыленные, нестандартные цитаты из чеховских писем и из дневников, которые прозвучали, в том числе, и в программе «Живешь в таком климате», да…
А.СМЕЛЯНСКИЙ: За что я очень благодарю Сергея Маковецкого.
К.ЛАРИНА: Спасибо Вам большое! Да выступайте, пожалуйста, почаще – где-нибудь в концертном зале Чайковского. В конце концов, ну?
Источник